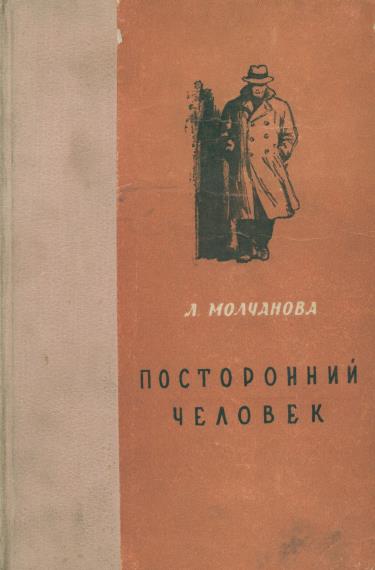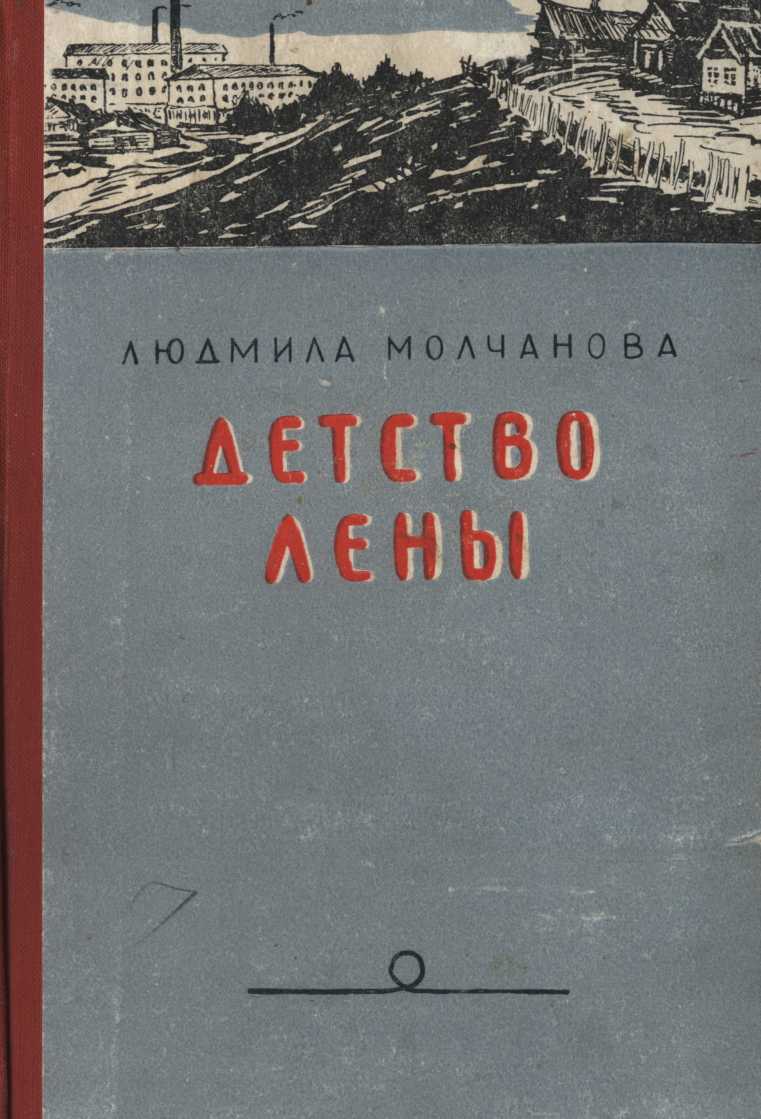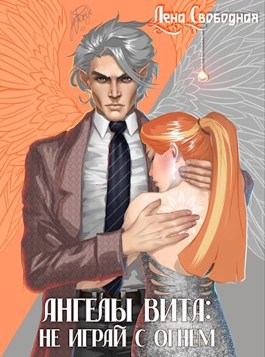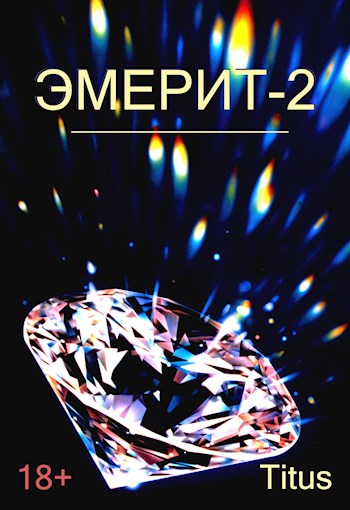Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Повесть о дореволюционном детстве девочки из семьи текстильщиков. Рис. А. Зырянова
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Людмила Георгиевна Молчанова»: