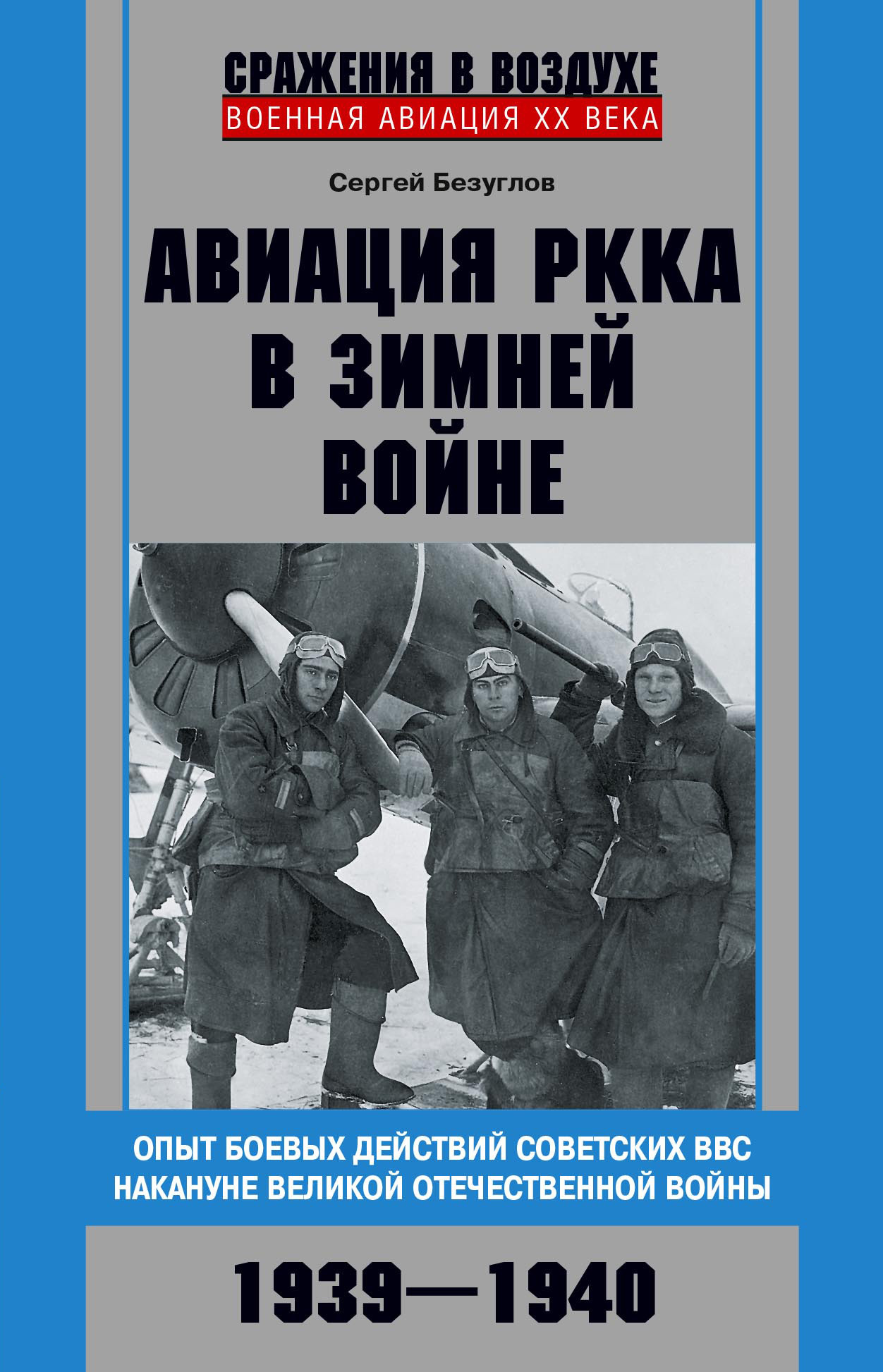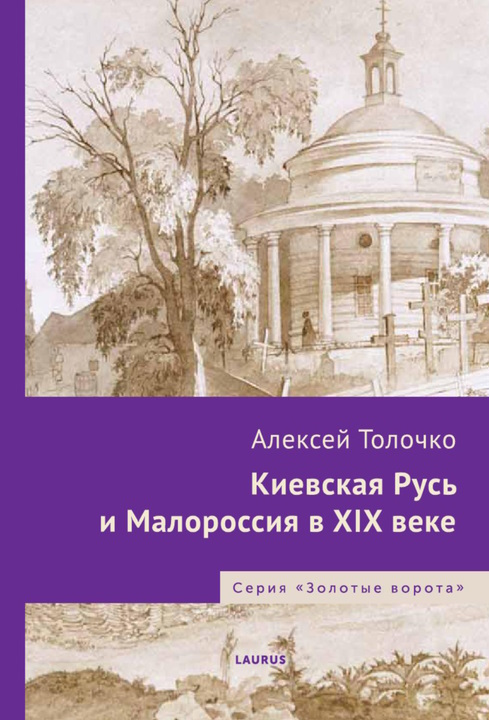Шрифт:
Закладка:
Долгое отступление - это новая книга известного российского социолога, левого публициста и видеоблогера Бориса Кагарлицкого. В ней автор анализирует современную политическую и социальную ситуацию в России и мире, выявляя причины и последствия глобального кризиса, который начался ещё в 2008 году и продолжается до сих пор. Кагарлицкий критикует как либеральную, так и консервативную модели развития, предлагая свой взгляд на возможные пути выхода из тупика. Он также рассматривает роль России в мировой политике, её отношения с Западом и Востоком, а также перспективы развития гражданского общества и социальных движений в стране.
Книга написана в живом и доступном языке, с примерами из истории и современности, с юмором и самоиронией. Она заставляет читателя задуматься о том, что происходит вокруг нас, и как мы можем повлиять на свою судьбу и судьбу мира. Это книга для тех, кто не хочет быть пассивным зрителем, а хочет быть активным участником перемен.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com или заказать её в бумажном или электронном виде. Не пропустите уникальную возможность познакомиться с мнением одного из самых оригинальных и провокационных мыслителей нашего времени!