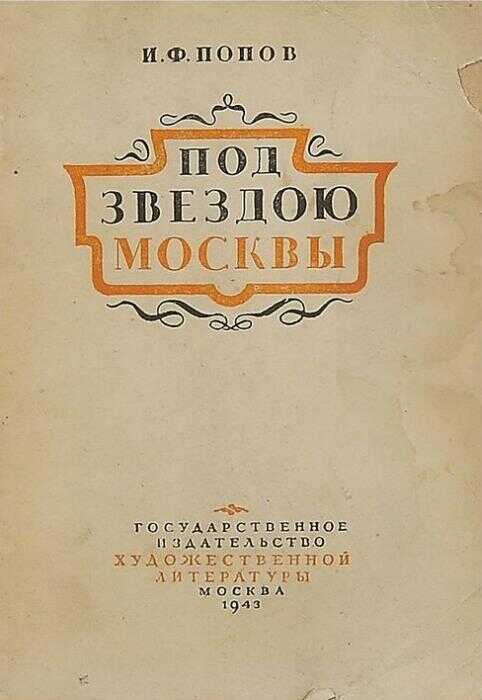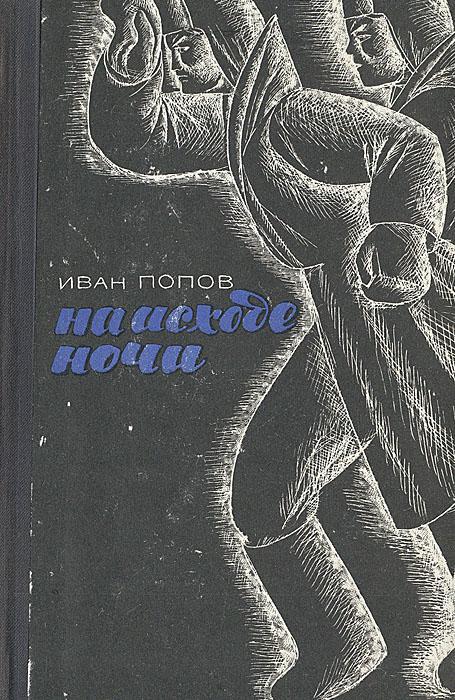Шрифт:
Закладка:
И. Ф. Попов — старый большевик, писатель, автор известной пьесы «Семья», посвященной годам юности В. И. Ленина. В канун империалистической войны И. Ф. Попов жил в эмиграции в Брюсселе, был представителем РСДРП во II Интернационале. Он часто встречался в те дни с В. И. Лениным, работал его секретарем и рассказал о нескольких эпизодах из жизни В. И. Ленина в своей книге «Один день с Лениным». В романе «На исходе ночи» писатель воспроизводит борьбу партии в тяжкие годы столыпинской реакции. Герой романа, двадцатилетний Павел, бежит из ссылки. Действие переносится в Москву, в обстановку революционного подполья. Павел работает в Замоскворечье партийным организатором, мужает в революционной борьбе. В образах Павла и его товарищей — Сундука, Клавдии и других — раскрыты лучшие черты подлинного большевика: принципиальность, стойкость, непримиримость в борьбе. Обаятельны женские образы романа — строгие, несколько аскетические, исполненные внутренней силы. «Озаренные» — этим словом определяет автор своих героев, тех, кто в темную пору реакции испытал на себе благотворное влияние В. И. Ленина и беззаветно пошел за ним.