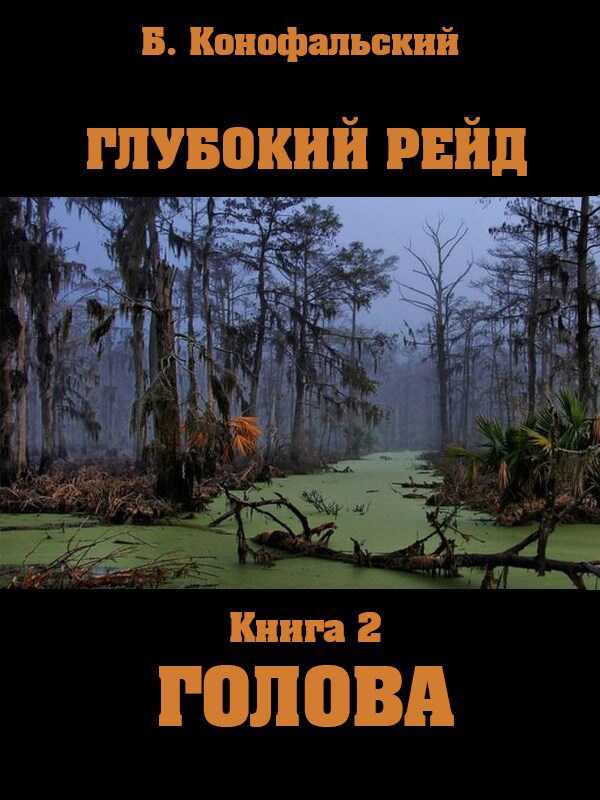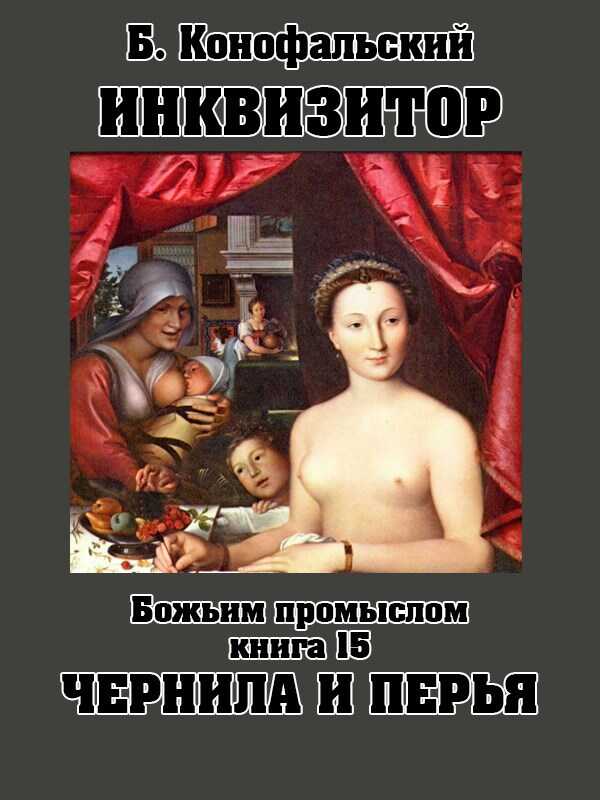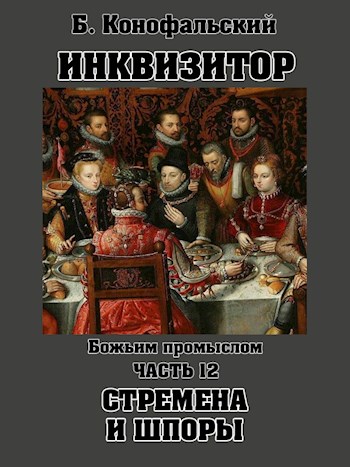Шрифт:
Закладка:
«Хоккенхаймская ведьма» – это исторический роман от Бориса Вячеславовича Конофальского, автора известных книг «Башмаки на флагах», «Раубриттер» и «Вассал и господин». Это книга, которая расскажет вам о жизни и смерти знаменитой ведьмы Анны Гёльди, которая была сожжена на костре в Швейцарии в 1782 году.
Главный герой книги – Якоб, молодой швейцарский журналист, который приезжает в городок Хоккенхайм, чтобы расследовать дело Анны Гёльди. Он узнает, что Анна была невинной жертвой интриг, зависти и предрассудков. Она была обвинена в колдовстве и отравлении дочери своего работодателя, хотя на самом деле она была любовницей его сына. Она также была защитницей бедных и угнетенных, которые страдали от тирании местных властей.
Якоб пытается доказать невиновность Анны и раскрыть правду о ее жизни и смерти. Он также влюбляется в Маргариту, молодую вдову, которая является подругой Анны. Он сталкивается с опасностью со стороны церкви, суда и тайного общества «Хоккенхаймские братья», которые хотят замять дело и убрать свидетелей.
«Хоккенхаймская ведьма» – это книга, которая не даст вам скучать. Она наполнена увлекательными приключениями, интригами, любовью и предательством. Она также показывает реалии и обычаи Европы XVIII века, ее культуру и историю. Она станет интересной и полезной для любителей истории и литературы. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com