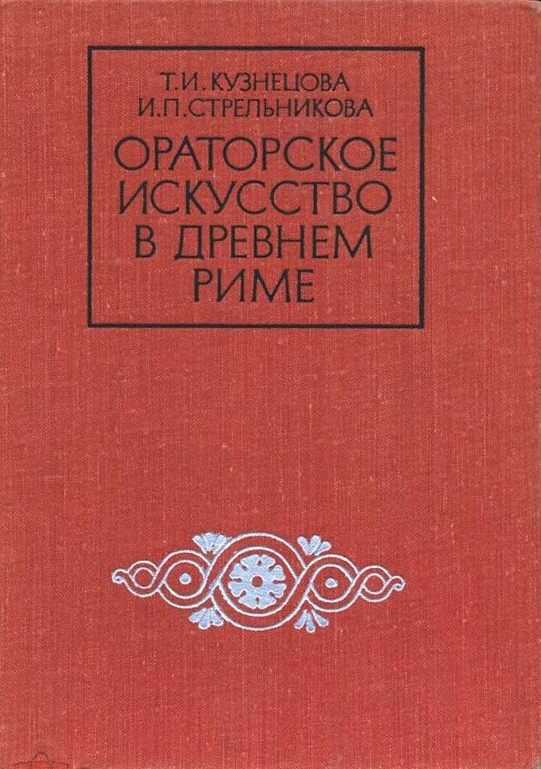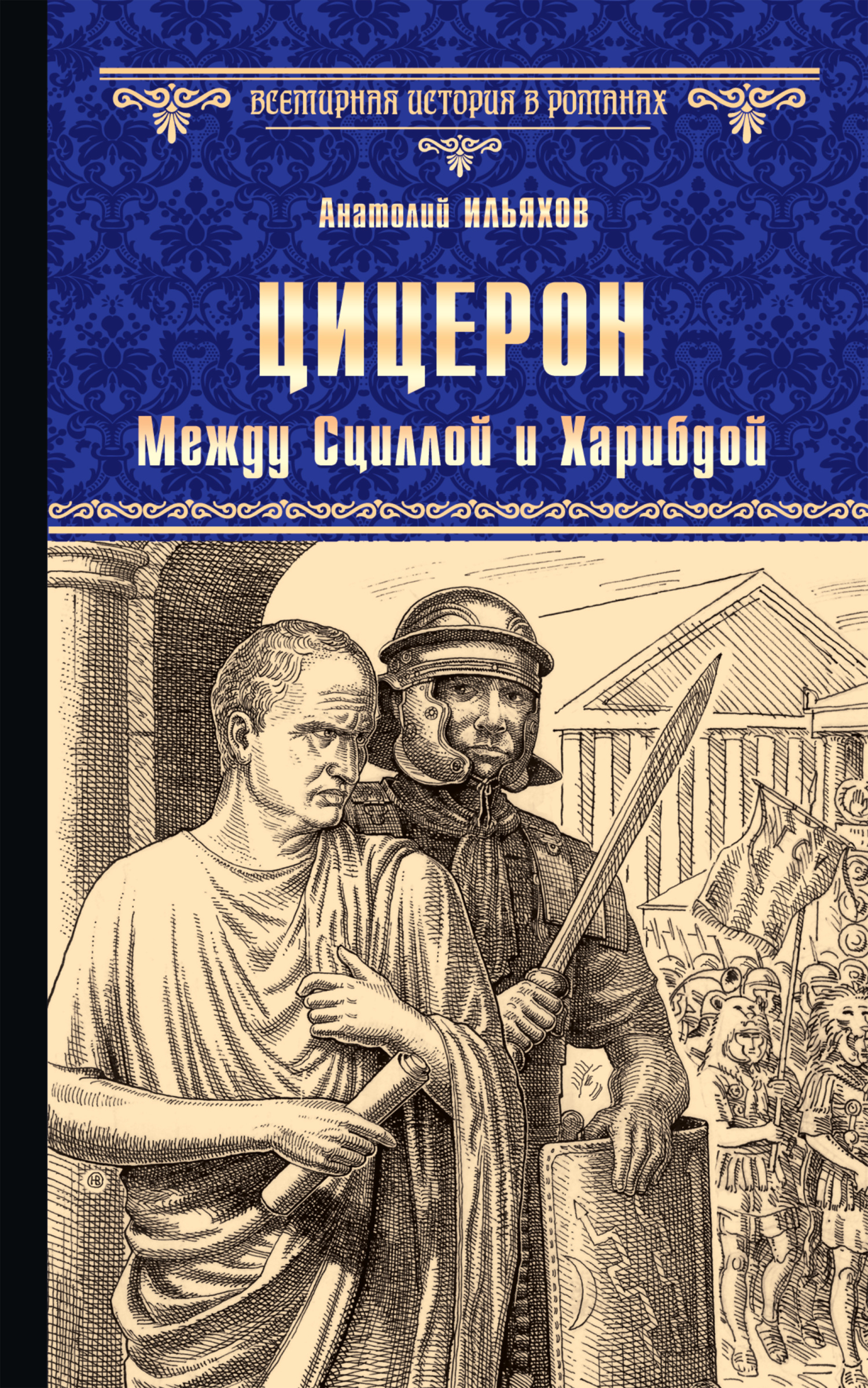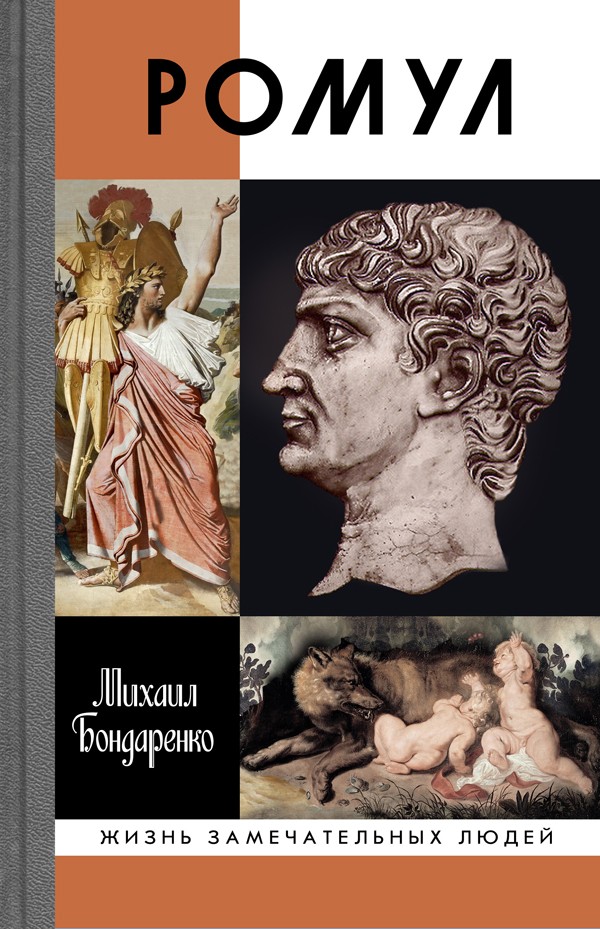Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книге содержится идейно-художественный анализ основных трудов по теории ораторского искусства и риторических произведений римских авторов, сохранившихся полностью или фрагментарно. Исследуется становление ораторского искусства в Риме и его развитие в зависимости от требований времени. Рассматриваются проблемы взаимосвязи риторической теории и ораторской практики, соотношения риторики с философией и поэзией, преобразования красноречия в самостоятельный жанр художественной прозы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Инна Петровна Стрельникова»: