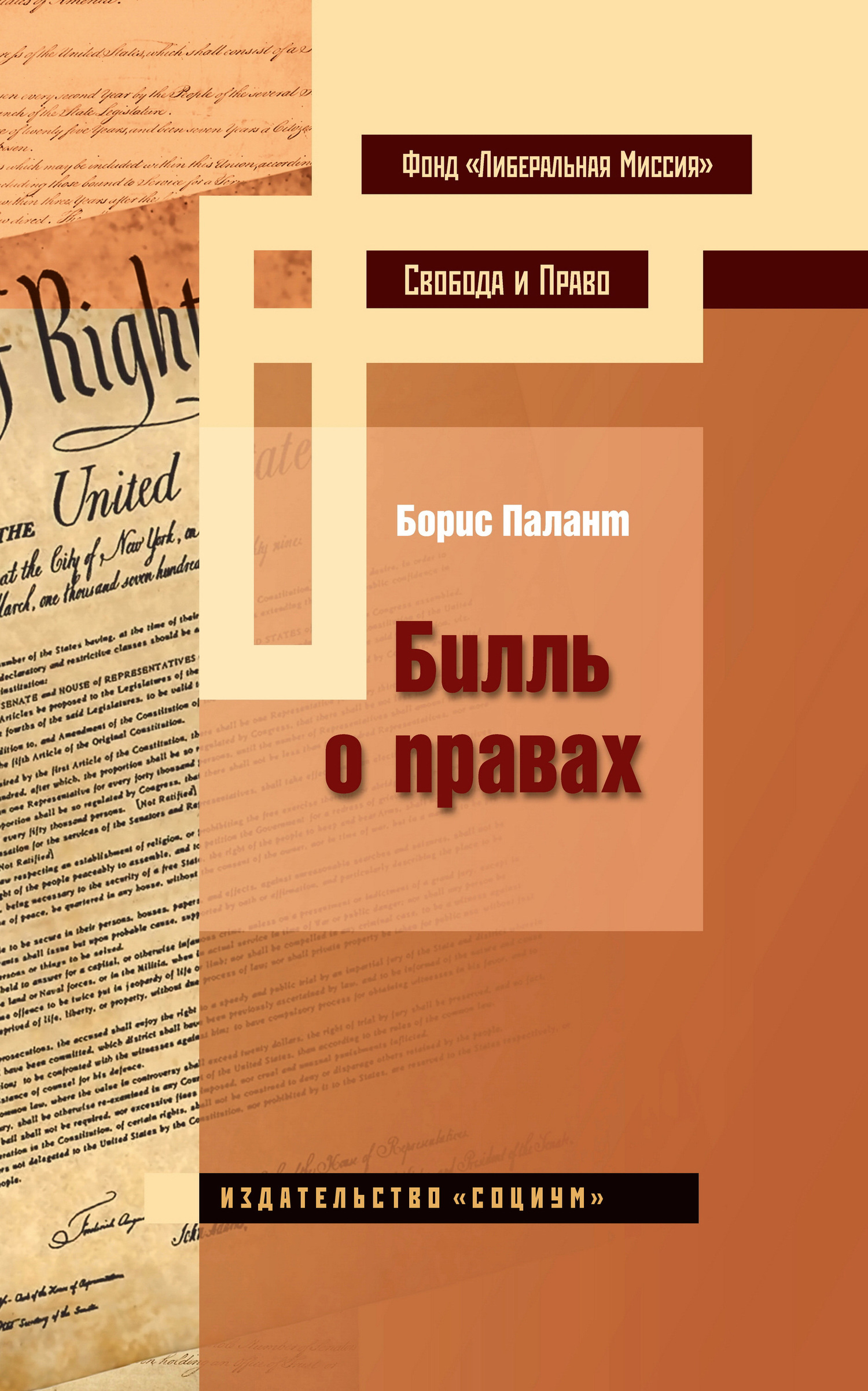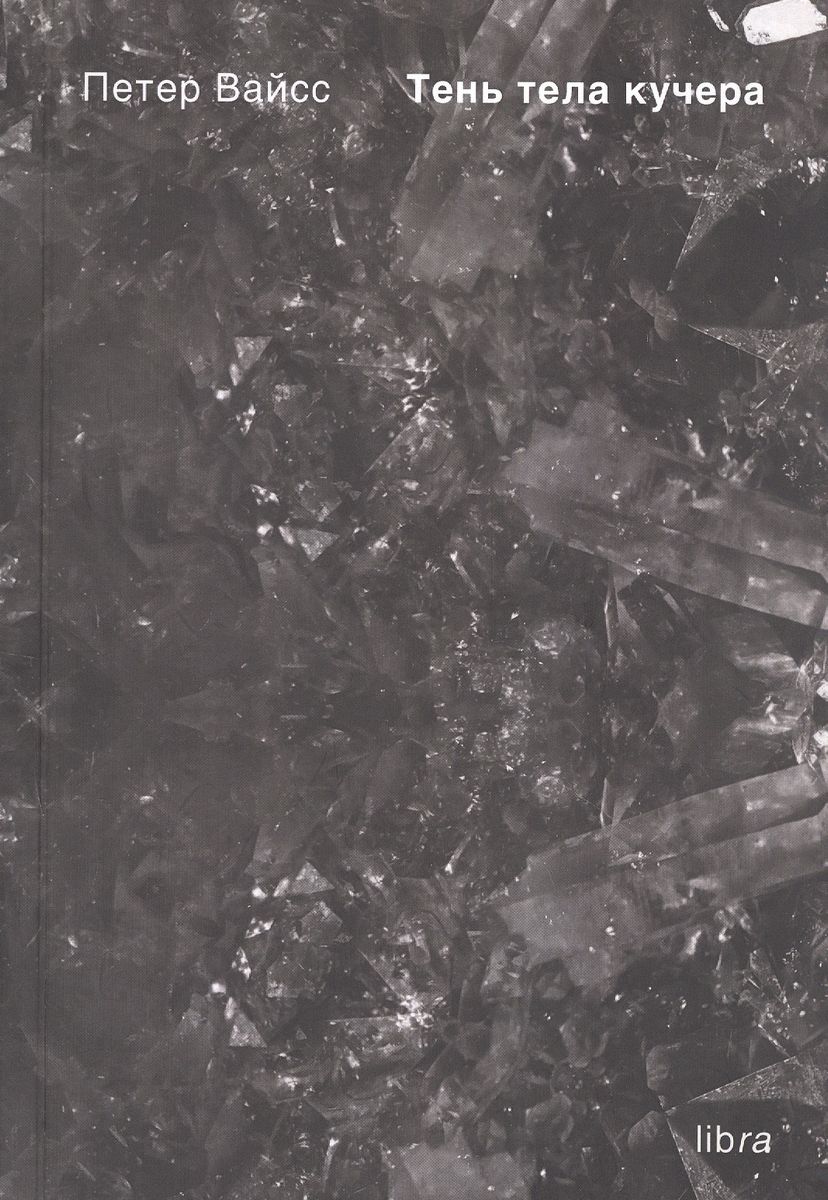Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Представляем вашему вниманию роман-буриме. Десять авторов собрались для того, чтобы написать о приключениях нашего современника в Российской империи конца XIX века. О чем будет эта книга? Этого пока никто не знает! Вся прелесть буриме в том, что роман рождается на ваших глазах, и с помощью ваших идей. И о чем будет следующая глава, не знает никто, даже тот автор, которому выпал жребий писать следующую строку. Пишите комментарии, придумывайте героев и сюжеты! И кто знает, возможно, вы увидите, как в романе оживают ваши собственные мысли. Дерзайте!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Козьма Прутков №2»: