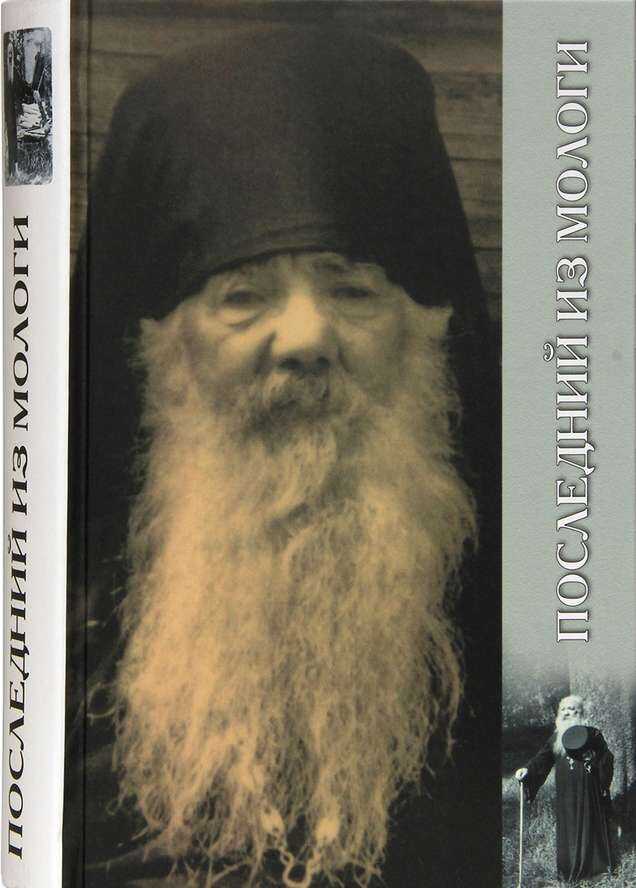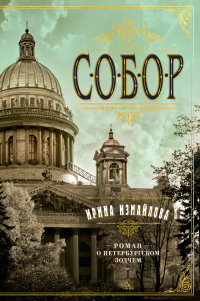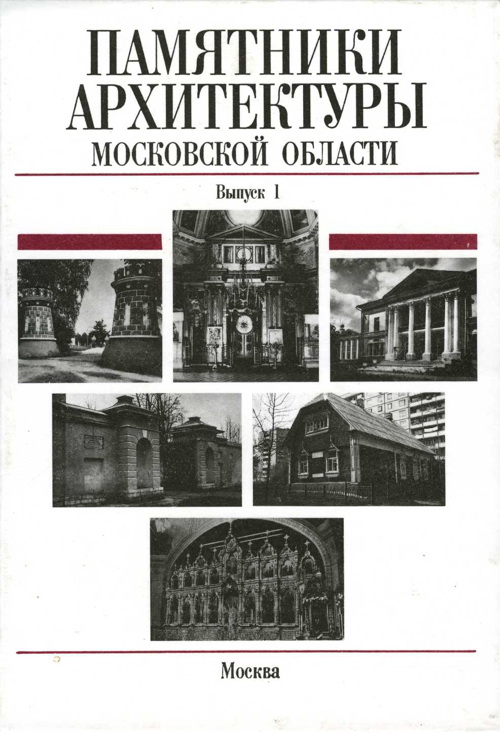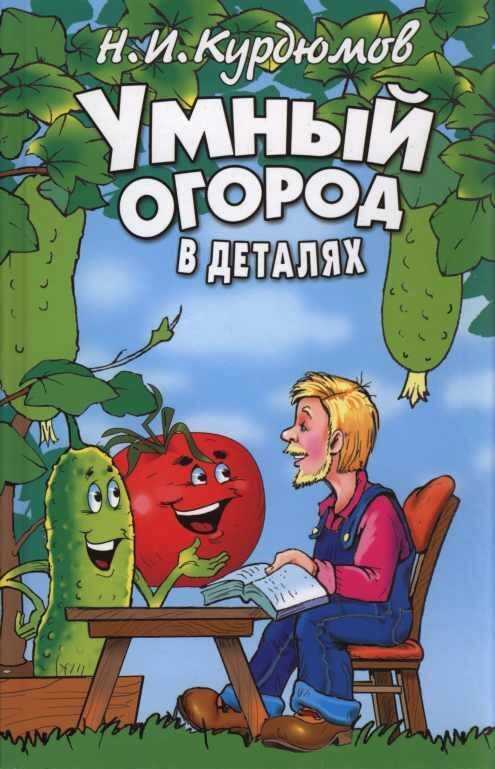Шрифт:
Закладка:
Начнут, бывало, в Верхне-Никульском бабки приставать к отцу Павлу:
— Батюшка, когда конец света?
А он этих разговоров терпеть не мог — о светопреставлении, об антихристе… Никакой новомодной мистики отец Павел не признавал, а относился ко всему реально, по-житейски.
Был еще такой случай в Петропавловске. На улице Крупской умерла соседка Прасковьи Осиповны и Ивана Гавриловича, звали ее Елена Ефремовна, а в просторечье Ахремовна, подруга хозяйкина. «Хозяйка у меня вдруг варит квашёнку, — вспоминал о. Павел.
— Иван Гаврилович, что такое?
— На поминки пойдет, Ахремовна умерла.
Самогонку делали вроде пива — 15 градусов — варили целую кадку и пили ковшиком. Ушла Прасковья Осиповна на поминки к подруге, а там старух набралось человек двадцать, над усопшей псалтирь читают.
— «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…»
— Врешь, не прочитаешь!
— Ну, давай еще по ковшичку нальем.
«Читали, читали, — рассказывал батюшка, — и уснули. Аух! Час ночи. Шли по Крупской два охломона:
— Давай зайдем, простимся с Ахремовной!
— Пойдем простимся.
Когда покойник в доме, дверь не запирают. Зашли — старухи все спят. И читалка спит, зараза, — по ковшичку хватили. Выпили и парни по ковшичку:
— Ахремовна, прощай!
Один говорит:
— Эх, Ахремовна, и читать-то по тебе некому — все спят.
А второй:
— Пускай сама читает! Ахремовну из гроба приподняли, под голову повыше подложили, очки одели.
— Давай псалтирь-то!
Положили ей псалтирь и ушли. Читай сама!
Вот среди ночи одной старухе приспичило. Встала кума:
— A-а! Ахремовна читает! — как заорет.
И молнией из дома! Кто из окон, кто из дверей повыпрыгивали — все, никого нету! Ахремовна, читай сама!
У кого-то из мужиков ружье висело в клубе. Схватил ружье, в окошко наставил:
— Ахремовна, не шути! А то выпалю! Из обоих стволов!
Наутро приходит домой Прасковья Осиповна. Ей Иван Гаврилович и говорит:
— Ну что, мале́ра, помянула?»
«У нас «дура», у них «мале́ра», — поясняет о. Павел.
С Прасковьей Осиповной и Иваном Гавриловичем, своими хозяевами, Павел Груздев жил душа в душу, как одна семья, они считали его своим сыном. Люди это были простые, глубоко православные — «и дедушко, и бабушка», как ласково называл их Павлуша. Как и в Вятских лагерях, сложилась у них небольшая православная общинка: монашек в ссылку привезли верхотурских — мать Егора, мать Тавифа, мать Асинефа, игумения Олимпиада Верхотурского женского монастыря, монахи с Соловков, отец Паласий…
Раз в месяц ходили отмечаться в спецкомендатуру Петропавловска — «придем, документы проверят, никуда не убежал ли». И вот у главного коменданта Юртонова, который им печати ставил, умер отец. А он НКВДешник, но отца захотел отпеть. «Его на кладбище принесли, — рассказывал о. Павел, — флаги спустили… А я говорю:
— Ребята, граждане начальство, разрешите и нам свое дело делать.
— Пожалуйста.
Запели мы на глас восьмый «Благословен Бог» и «Аллилуйя».
— Попы, попойте еще! — стали просить нас. — Приходите!
Аух, нельзя!»
Так день за днем, месяц за месяцем наступил и 53-й год. «Прихожу с работы домой, — вспоминал о. Павел, — дедушка мне и говорит:
— Сынок, Сталин умер!
— Деда, молчи. Он вечно живой. И тебя, и меня посадят. Завтра утром мне снова на работу, а по радио передают, предупреждают, что когда похороны Сталина будут, «гудки как загудят все! Работу прекратить — стойте и замрите там, где вас гудок застал, на минуту-две…» А со мною в ссылке был Иван из Ветлуги, фамилия его Лебедев. Ой, какой хороший мужик, на все руки мастер! Ну все, что в руки ни возьмет — все этими руками сделает. Мы с Иваном на верблюдах тогда работали. У него верблюд, у меня верблюд. И вот на этих верблюдах-то мы с ним по степи едем. Вдруг гудки загудели! Верблюда остановить надо, а Иван его шибче лупит, ругает. И бежит верблюд по степи, и не знает, что Сталин умер!»
Так проводили Сталина в последний путь рясофорный Павел Груздев из затопленной Мологи и мастер на все руки из старинного городка Ветлуга Иван Лебедев. «А уж после похорон Сталина молчим — никого не видали, ничего не слыхали».
И вот снова ночь, примерно час ночи. Стучатся в калитку:
— Груздев здесь?
Что ж, ночные посетители — дело привычное. У отца Павла мешок с сухарями всегда наготове. Выходит:
— Собирайся, дружок! Поедешь с нами!
«Дедушко ревит, бабушка ревит… — «Сынок!» Они за столько лет уже привыкли ко мне, — рассказывал о. Павел. — Ну, думаю, дождался! На Соловки повезут! Всё мне на Соловки хотелось… Нет! Не на Соловки. Сухари взял, четки взял — словом, все взял.
Господи! Поехали.
Гляжу, нет, не к вокзалу везут, а в комендатуру. Захожу. Здороваться нам не велено, здороваются только с настоящими людьми, а мы — арестанты, «фашистская морда». А что поделаешь? Ладно. Зашел, руки вот так, за спиной, как положено — за одиннадцать годов-то пообвык, опыта набрался. Перед ними стоишь, не то чтобы говорить — дышать, мигать глазами, и то боишься.
— Товарищ Груздев!
Ну, думаю, конец света. Все «фашистская морда», а тут товарищ.
— Садитесь, свободно, — меня, значит, приглашают.
— Хорошо, спасибо, но я постою,