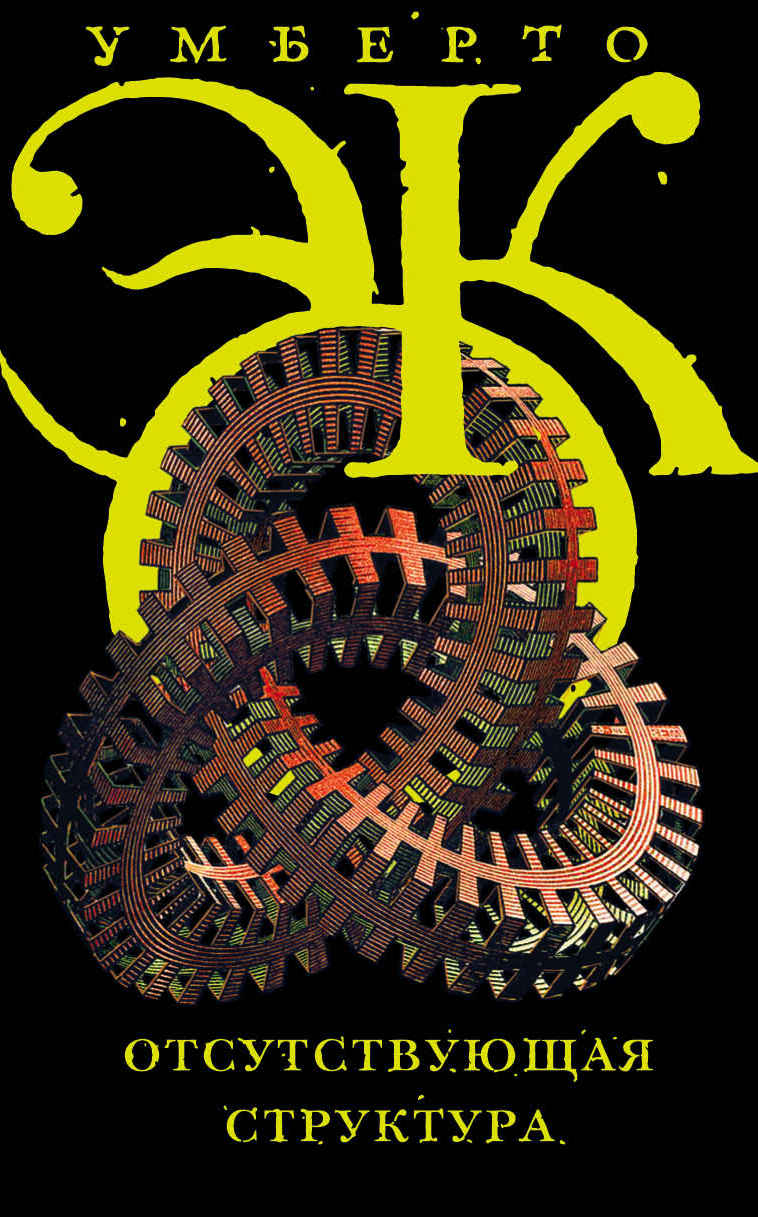Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Умберто Эко – знаменитый итальянский писатель, автор мировых бестселлеров «Имя розы» и «Маятник Фуко», лауреат крупнейших литературных премий, основатель научных и художественных журналов, специалист по семиотике, историк культуры. Его труды переведены на сорок языков. Очерки, включенные в эту книгу, родились из доклада «Проблема открытого произведения», прочитанного на XII Международном философском конгрессе в 1958 г. В 1962 г. они появились под заголовком «Открытое произведение» и были дополнены обстоятельным исследованием, посвященным поэтике Джойса, где автор пытался проследить развитие этого художника. Настоящий сборник продолжает серию научных работ Умберто Эко, изданных на русском языке.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Умберто Эко»: