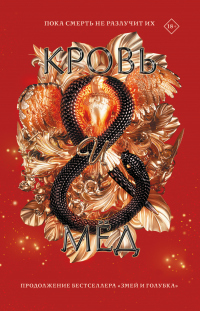Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
НЕ ПРИНУЖДАЙ МЕНЯ ОСТАВИТЬ ТЕБЯ И ВОЗВРАТИТЬСЯ ОТ ТЕБЯ.Лу, Рид, Коко и Ансель бегут из столицы, и их портреты висят на каждом столбе – теперь им уже нигде не спрятаться. Чтобы выжить, им нужны сильные союзники.КУДА ТЫ ПОЙДЁШЬ, ТУДА И Я ПОЙДУ.Лу хочет защитить себя и тех, кого любит, от коварных игр Морганы. В своём желании она становится всё более отчаянной – и обращается к тёмной магии. Этот шаг может стоить Риду той единственной потери, которой он не сможет вынести.И ГДЕ ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ, ТАМ И Я БУДУ ЖИТЬ.Но, верный данной Луизе клятве, Рид изучает свою собственную силу и готовится во что бы то ни стало защищать свою любовь.Они связаны до конца своих дней. Навеки вместе.И в горе, и в радости.Пока смерть не разлучит их.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Шелби Махёрин»: