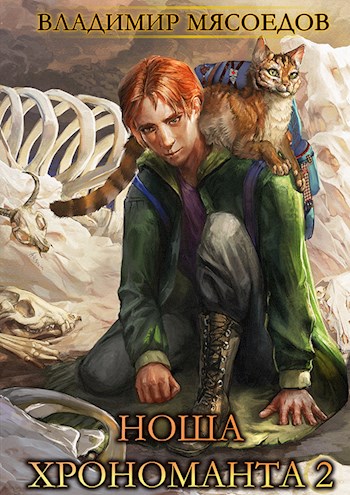Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В романе показано проникновение германского фашизма в страны Востока, коварные замыслы гитлеровцев по их захвату и крах их бредовых планов в результате разгрома фашистских армий под Сталинградом. Герои произведения поднимают руку, чтобы остановить колесницу Джагарнаута, символизирующую в романе германский фашизм.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Иванович Шевердин»: