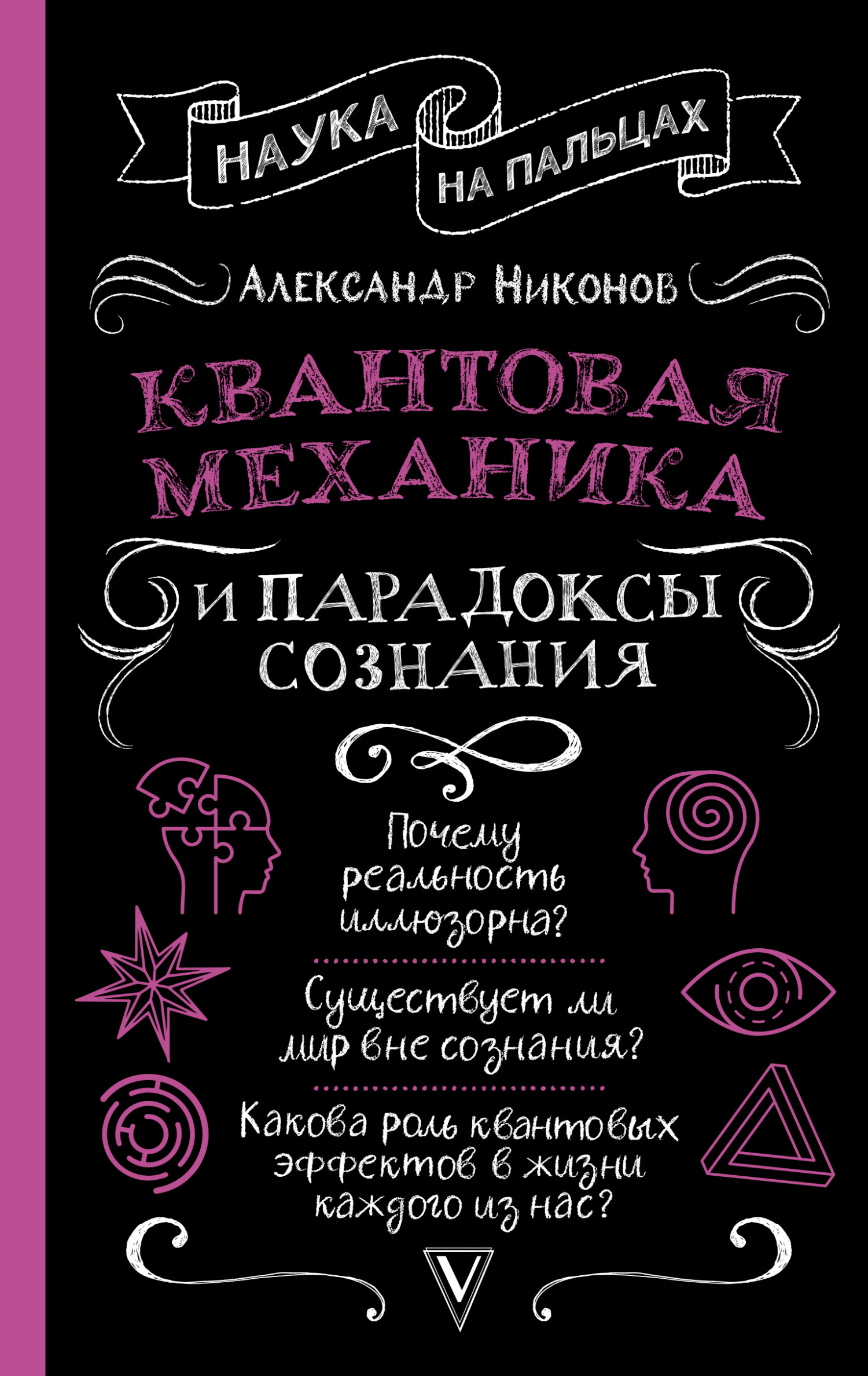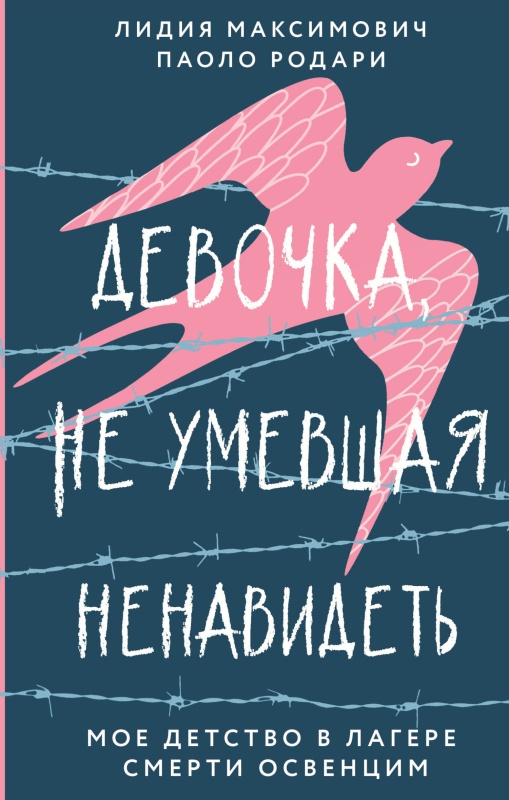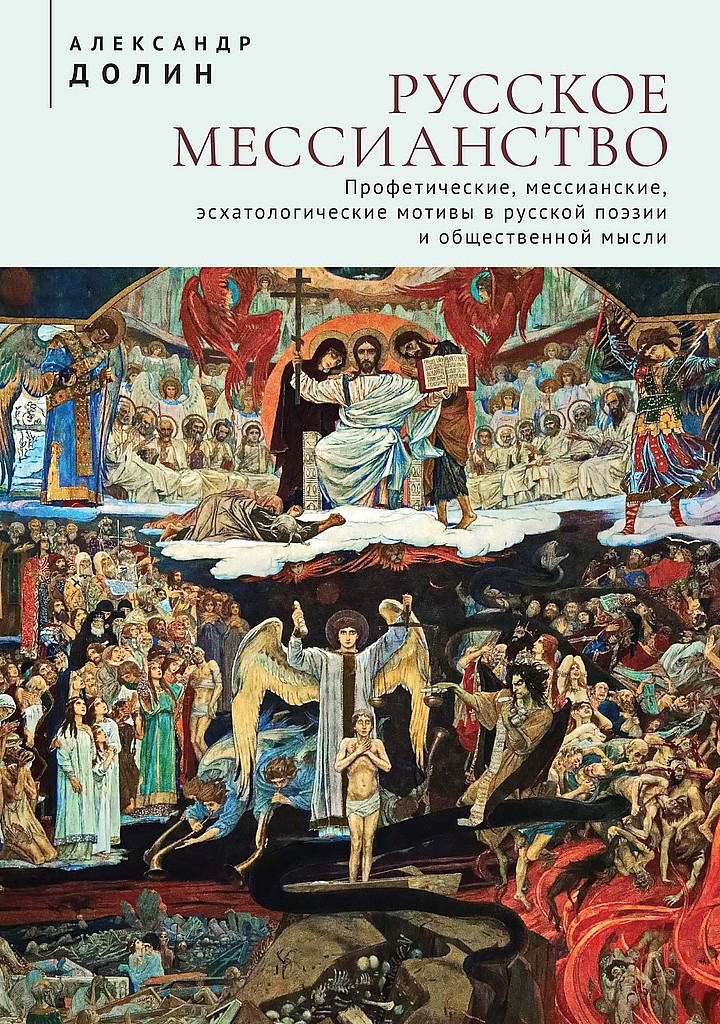Шрифт:
Закладка:
Время оттепели — это период в истории Советского Союза, который характеризовался политическими и культурными переменами, связанными с курсом на «разрядку» международной напряженности и «перестройку» общественной жизни. Это время оставило глубокий след в сознании многих поколений советских людей, которые стали свидетелями и участниками разных событий, явлений, тенденций.
В книге «Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)» Лидии Алексеевны Зайцевой вы узнаете о том, как это время отразилось на экране. Вы познакомитесь с разными жанрами, стилями, направлениями кинематографа, которые возникли или развивались в эти годы. Вы увидите, как менялись темы, проблемы, герои, идеология фильмов. Вы узнаете, какие фильмы стали классикой, а какие вызвали скандалы или цензуру. Вы оцените, какие фильмы были художественно значимыми, а какие социально актуальными.
«Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)» — это книга для тех, кто любит читать о истории и культуре Советского Союза, о влиянии кино на общественное мнение и настроение, о творческих поисках и экспериментах режиссеров и актеров. Это книга для тех, кто не боится анализировать и критиковать прошлое и настоящее.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Наслаждайтесь чтением и делитесь своими впечатлениями с другими читателями!