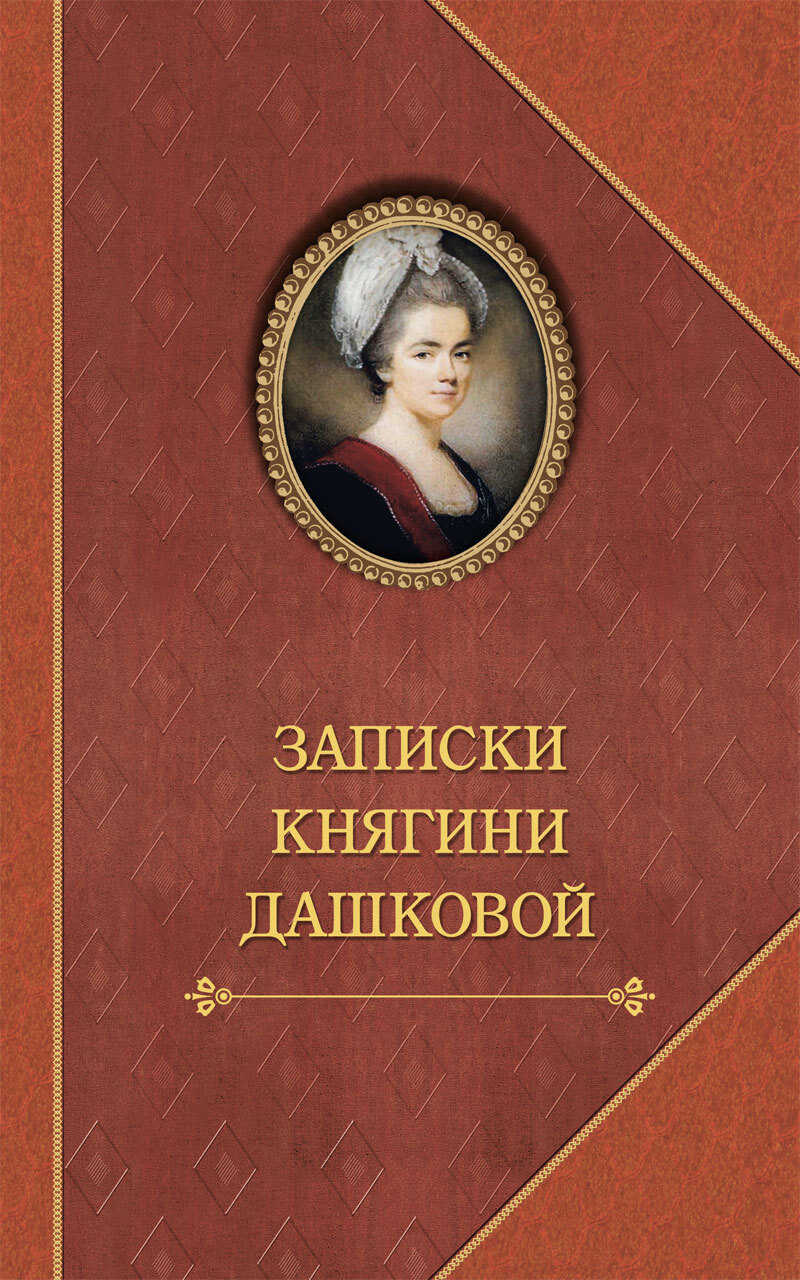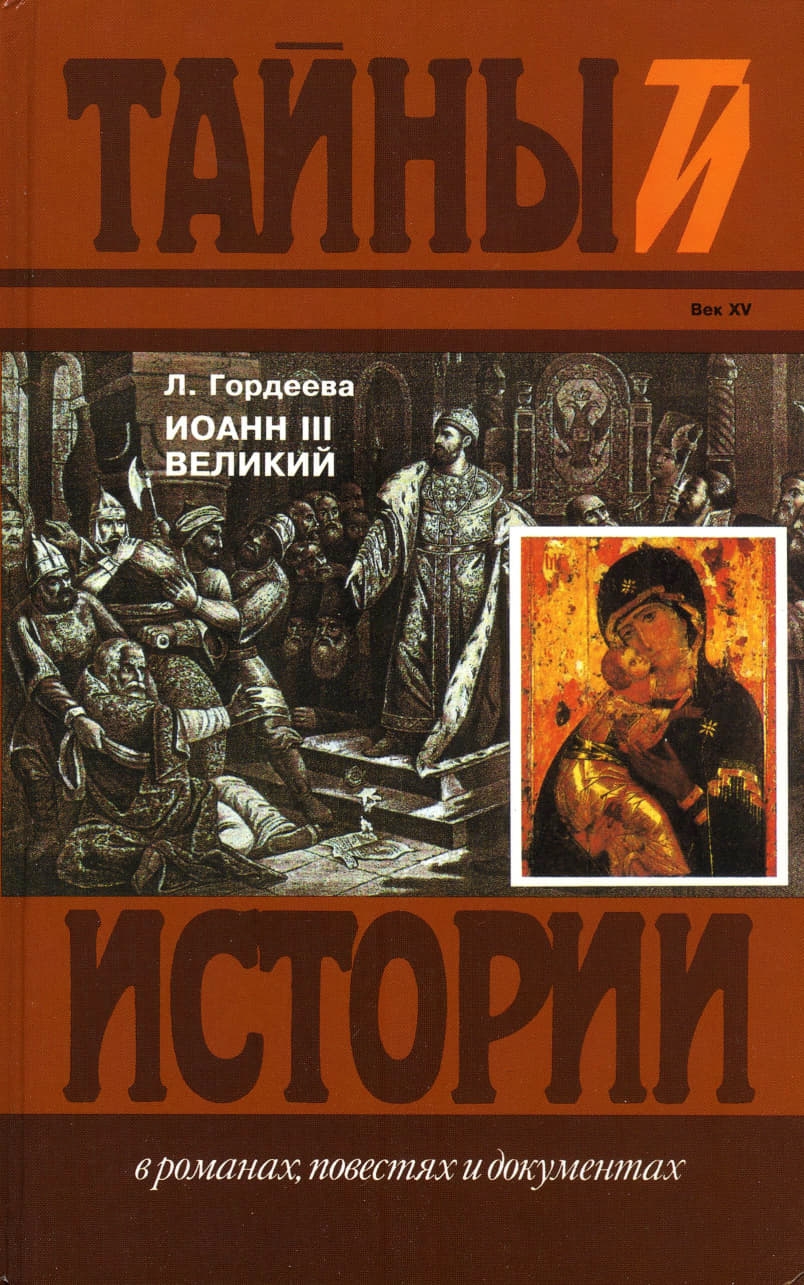Шрифт:
Закладка:
Противодействие новому порядку дел после его жестокого водворения мы видим в одних неправославных раскольниках и в страдательном неучастии крестьян. Ворчливое упорство нескольких стариков ничего не значит. Подавленная покорность всех «староверов» была признанием своего бессилия. Если б оставалось что-нибудь живое в их воззрении, непременно были бы попытки, положим, неудачные, невозможные, но были бы. Всякие Анны Леопольдовны, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны находили людей отважных и преданных, подвергавшихся из-за них плахе и каторге; погибающее казачество и смятое под ноги дворянства крепостное состояние имело своего Пугачева, а Пугачев – свои двести тысяч войска; киргиз-кайсаки откочевали к Китаю; крымские татары соединились с турками; Малороссия громко роптала, всё оскорбленное или придавленное императорством заявляло свой протест, – старорусская партия в России – никогда. У ней не было ни языка, ни преданных людей, ни Полуботки, ни Мазепы.
И только через полтораста лет после Петра она находит себе представителя и вождя, и этот представитель и вождь – Николай. Если б ему церковной нетерпимостью и народной исключительностью удалось пересоздать императорскую власть и заменить ее диктаториальный характер чисто монархическим или царским, это было бы несчастье, но оно было невозможно. Едва Николай умер, Россия рвется снова на петровскую дорогу – и вовсе не в завоевательном, не в солдатском направлении его, а в развитии внутренних материальных и нравственных сил.
Петр I был один из ранних деятелей великого XVIII столетия и действовал в его духе, он был проникнут им, как Фридрих II, как Иосиф II. Его революционный реализм берет верх над его царским достоинством – он деспот, а не монарх. Мы все знаем, как Петр ломал старое и как устраивал новое. Тяжелому, неподвижному византийскому чину он противопоставил трактирные нравы; скучная Грановитая палата превратилась при нем в разгульный дворец; вместо законного престолонаследия он раз предоставил императору право назначать кого хочет, другой – писал Сенату, чтоб он сам избрал достойнейшего, если он погибнет в турецком плену, и затем отнятую у родного сына корону отдал горничной, которая дошла до него, переходя из рук в руки. Он упразднил место святейшего патриарха, запретил мощам являться и утер досуха слезы всех скорбящих чудотворных икон. В стране упрямого местничества он посадил выше всех плебея Меншикова, водился с иностранцами, даже с арапами, напивался пьян с матросами и шкиперами, буянил на улицах, словом, оскорблял все стороны прежней чопорной русской жизни и важный царский формализм.
Он задал тон, наследники продолжали его, преувеличивая и искажая; полвека после него длится одна непрерывная оргия вина, крови, разврата; L'ultimo atto, – как выразился один итальянский писатель, – d'una tragedia representato nel un lupanar[68]. Какое тут православие, какой тут монархически-рыцарский принцип?
Если во второй половине царствования Екатерины трагический характер бледнеет, то локаль остается тот же: историю Екатерины II нельзя читать при дамах. Монархически растленный Версаль с удивлением смотрел на беспутство русского двора – так, как на философский либерализм Екатерины II, потому что Версаль не понимал, что основания императорской власти в России совсем не те, на которых зиждется французская королевская власть.
Когда Александр сказал в Тильзите Наполеону, что вовсе не согласен со значением, которое он приписывает наследственности царской власти, Наполеон думал, что Александр его обманывает. Когда он говорил мадам де Сталь, что он – только «счастливая случайность»[69], она это приняла за красивую фразу. А это была глубочайшая правда его.
Сердясь на трусость немецких государей, император Александр говорил в своей прокламации 22 февраля 1813 года их подданным: «Страх удерживает ваши правительства, не останавливайтесь на этом. Если ваши государи под влиянием малодушия и подобострастия ничего не сделают, тогда должен раздаться голос подданных и заставить государей, которые влекут свои народы в рабство и несчастье, – вести их к свободе и чести». Дело в том, что Александр еще понимал петровскую традицию своей власти, он был слишком близок к первой эпохе императорства, чтоб представлять из себя гвардейского папу всех реакций. Он даже с явным сомнением и нерешительностью прочел доносы Шервуда и Майбороды[70].
Без сомнений и мыслей сел на его место Николай и сделал из своей власти машину, которая должна была вести Россию вспять. Но императорство не сильно, как только оно делается консервативным. Россия отреклась от всего человеческого, от покоя и воли, она шла в немецкую кабалу только для того, чтоб выйти из душного и тесного состояния, которое ей было не под лета. Вести ее назад теми же средствами невозможно. Только идучи вперед к целям действительным, только способствуя больше и больше развитию народных сил при общечеловеческом образовании, и может держаться императорство. Масло, которым будут смазывать паровозы на новых железных дорогах, прочнее венчает на царство, нежели елей Успенского собора.
Верно ли понята нами императорская власть, ярко и живо показывают превосходные «Записки» Дашковой. Цель наша будет вполне достигнута, если беглый отчет наш об их содержании заставит читателей взять в руки самую книгу.
В 1744 году императрица Елизавета и великий князь Петр Федорович крестили дочь Екатерину, родившуюся у графа Романа Воронцова, брата великого канцлера. Семья Воронцова принадлежала к тому небольшому числу олигархического барства, которые вместе с наложниками императриц управляли тогда как хотели Россией, круто переходившей из одного государственного быта в другой. Они хозяйничали в царстве точно так, как теперь у богатых помещиков дворовые управляют дальними и ближними волостями.
Помещицу Елизавету Петровну любили вовсе не потому, что она заслуживала этого, ее любили за то, что покойница Анна Иоанновна держала немца Бирона управляющим, а у нас немцев-управляющих терпеть не могут. Она была народнее Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны; сверх петровской крови, она имела все недостатки русского характера, то есть пила иногда запоем и всегда до того, что вечером не могла дождаться, пока горничные ее разденут, а разрезала шнурки и платья. Она ездила на богомолья, ела постное, была суеверна и страстно любила рядиться – после нее осталось пятнадцать тысяч платьев, любила пуще всего драгоценные камни, как наши богатые купчихи, и, вероятно, имела