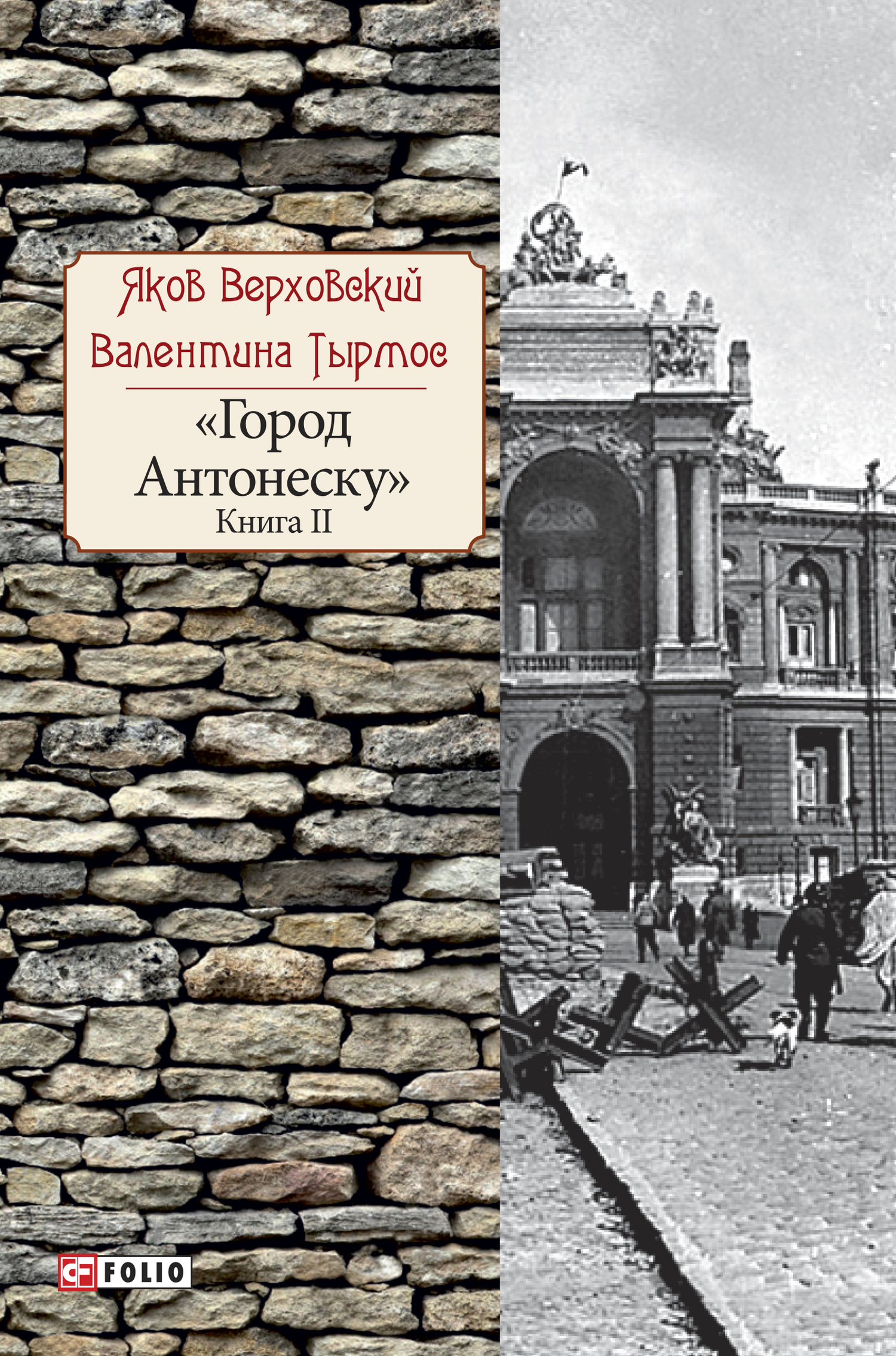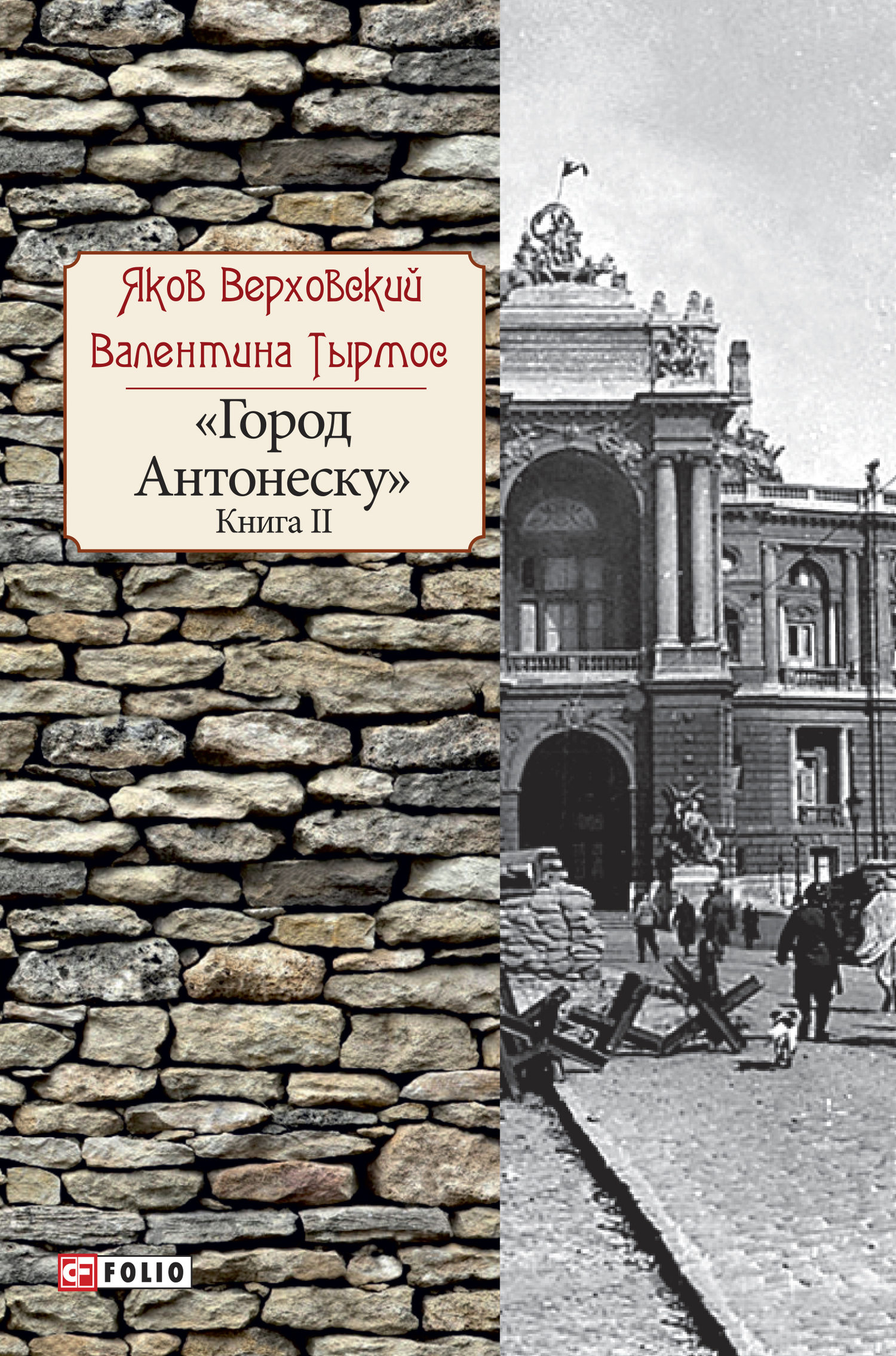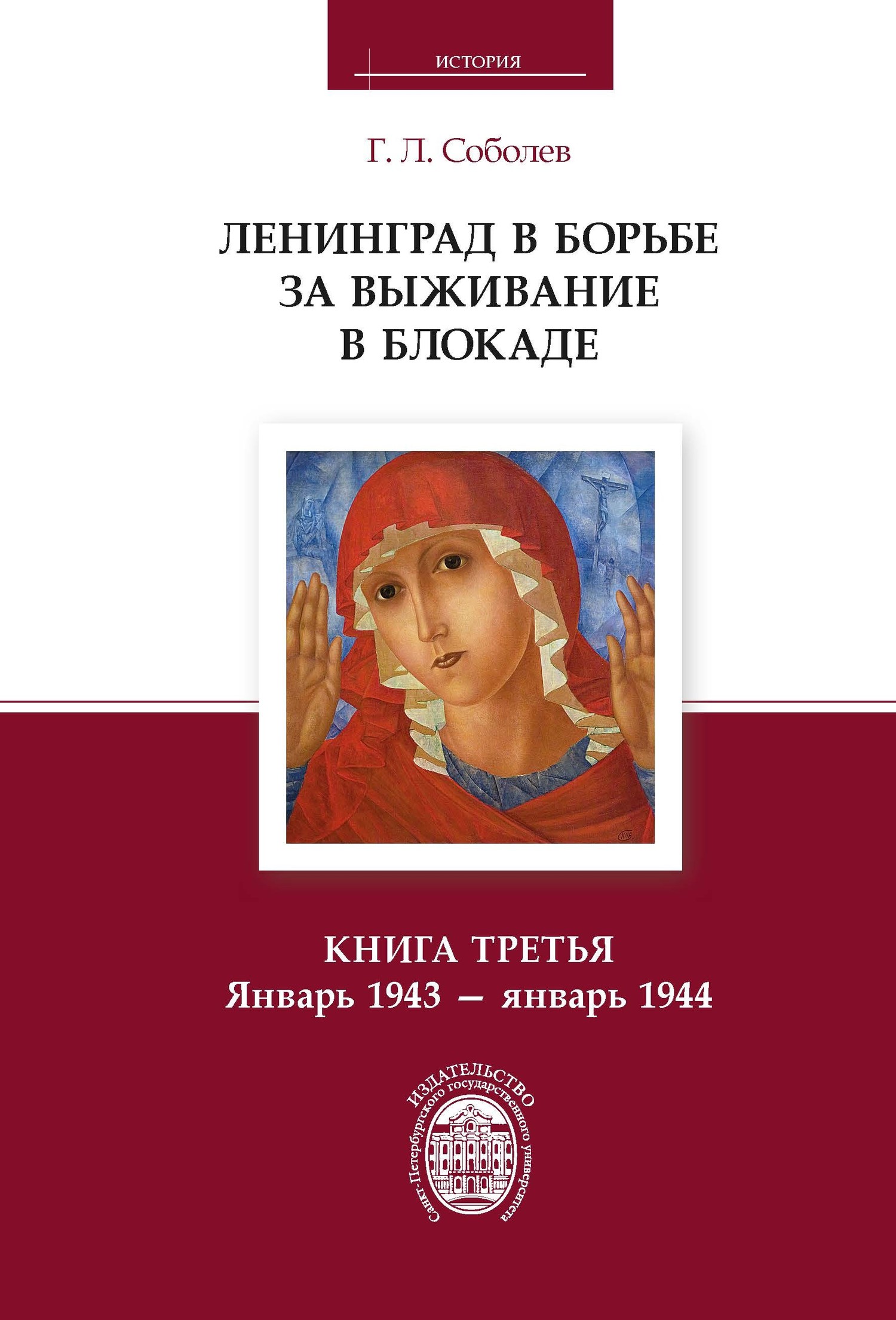Шрифт:
Закладка:
«Город Антонеску» – главная книга жизни авторов, ведь история двух еврейских семей – это, по большому счету, трагическая, страшная история всех евреев Одессы. Хронологическое изложение событий перебивают наивные, порой смешные рассказы детей. Более 900 дней и ночей провели они в «Городе Антонеску», в эпицентре Ужаса, под постоянным страхом смерти. Быть евреем тогда в Одессе означало одно – смерть. Она могла появиться в любом обличье – в виде расстрела, в виде голода, в виде вражеского солдата, ну или в виде дворника, ранее снимавшего перед тобой шапку, или в виде бывшего соседа, делившего с тобой коммуналку… Но было и спасение – от совсем не знакомых прежде людей, рисковавших не только своей жизнью, но и жизнью своих детей…