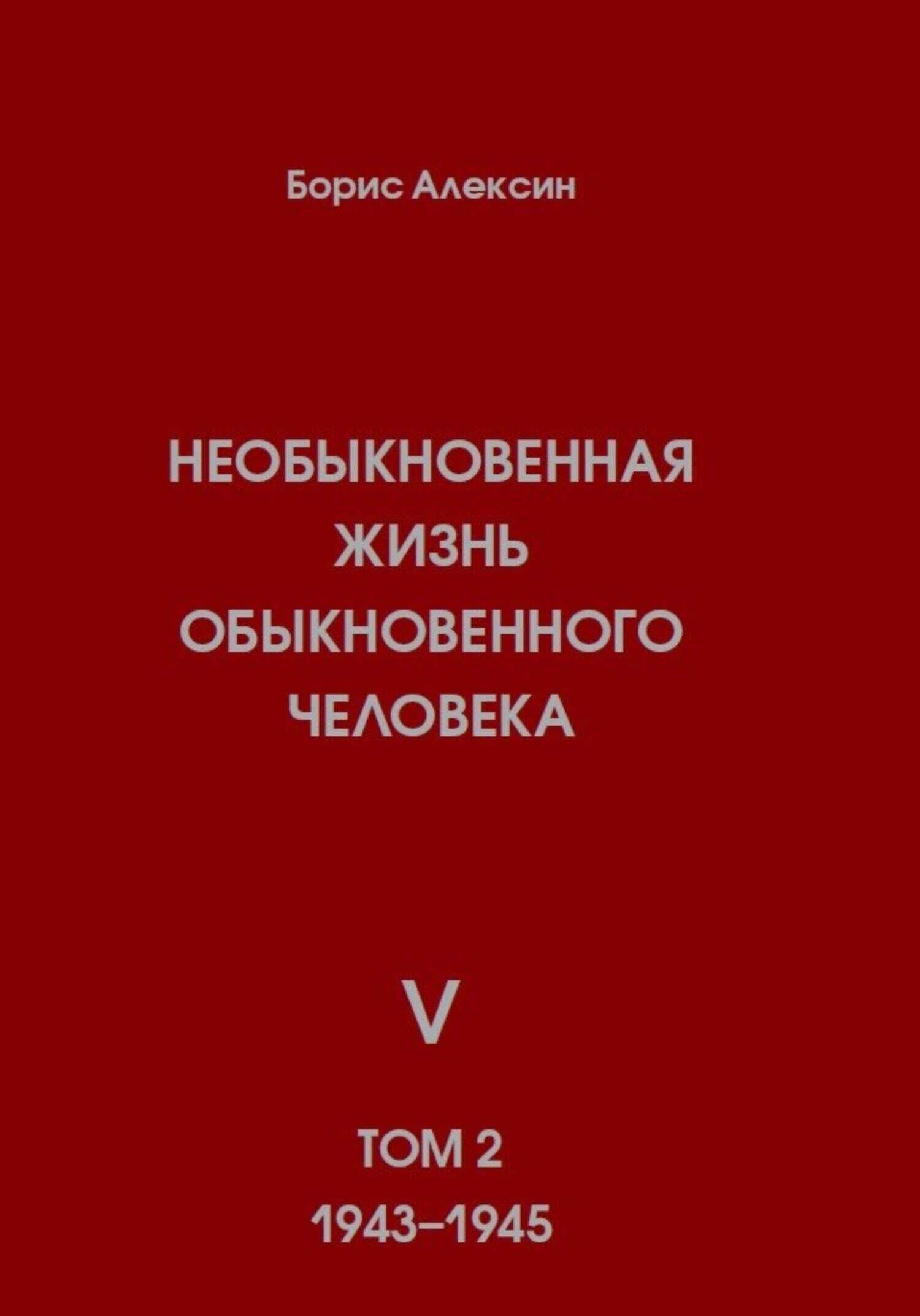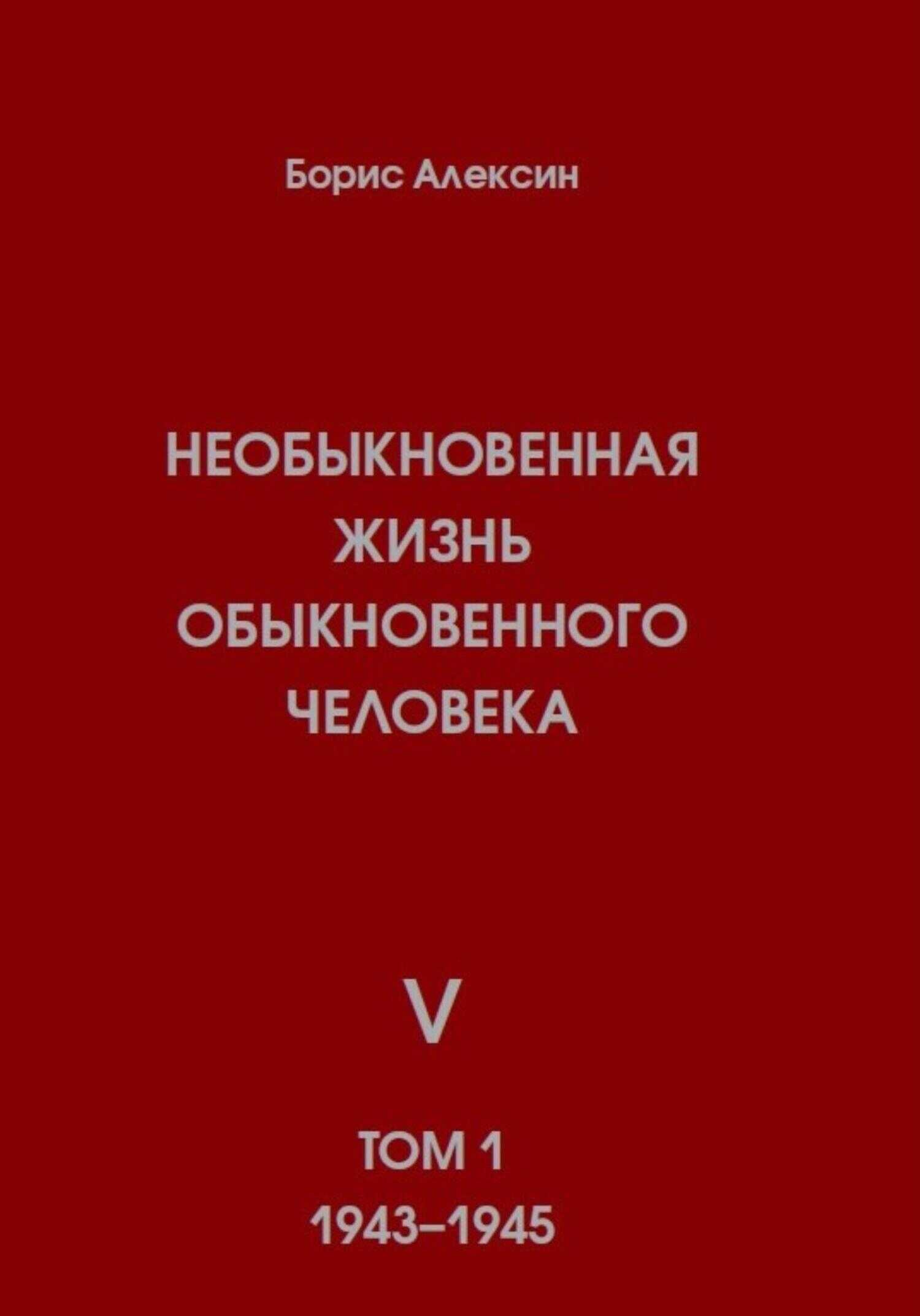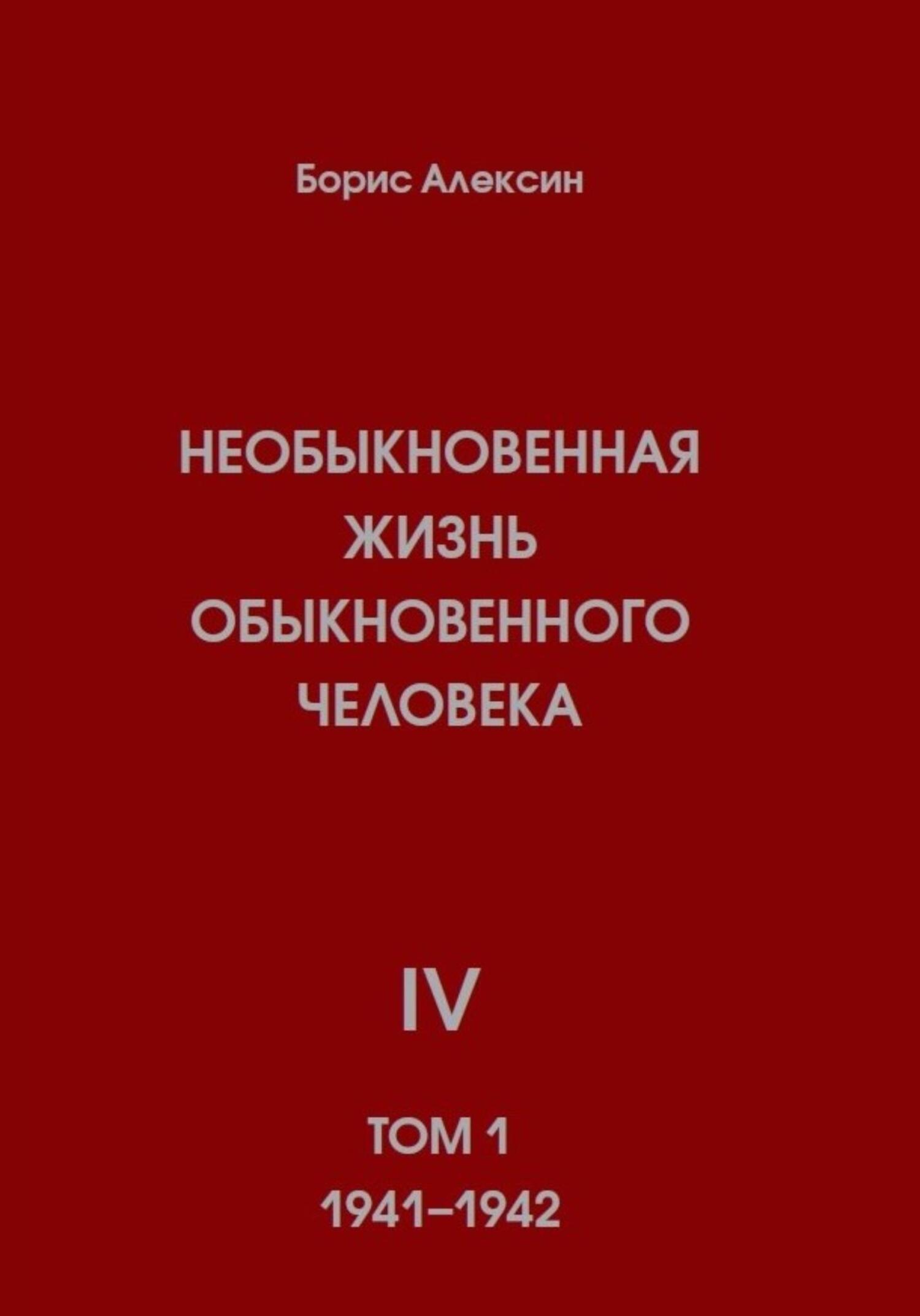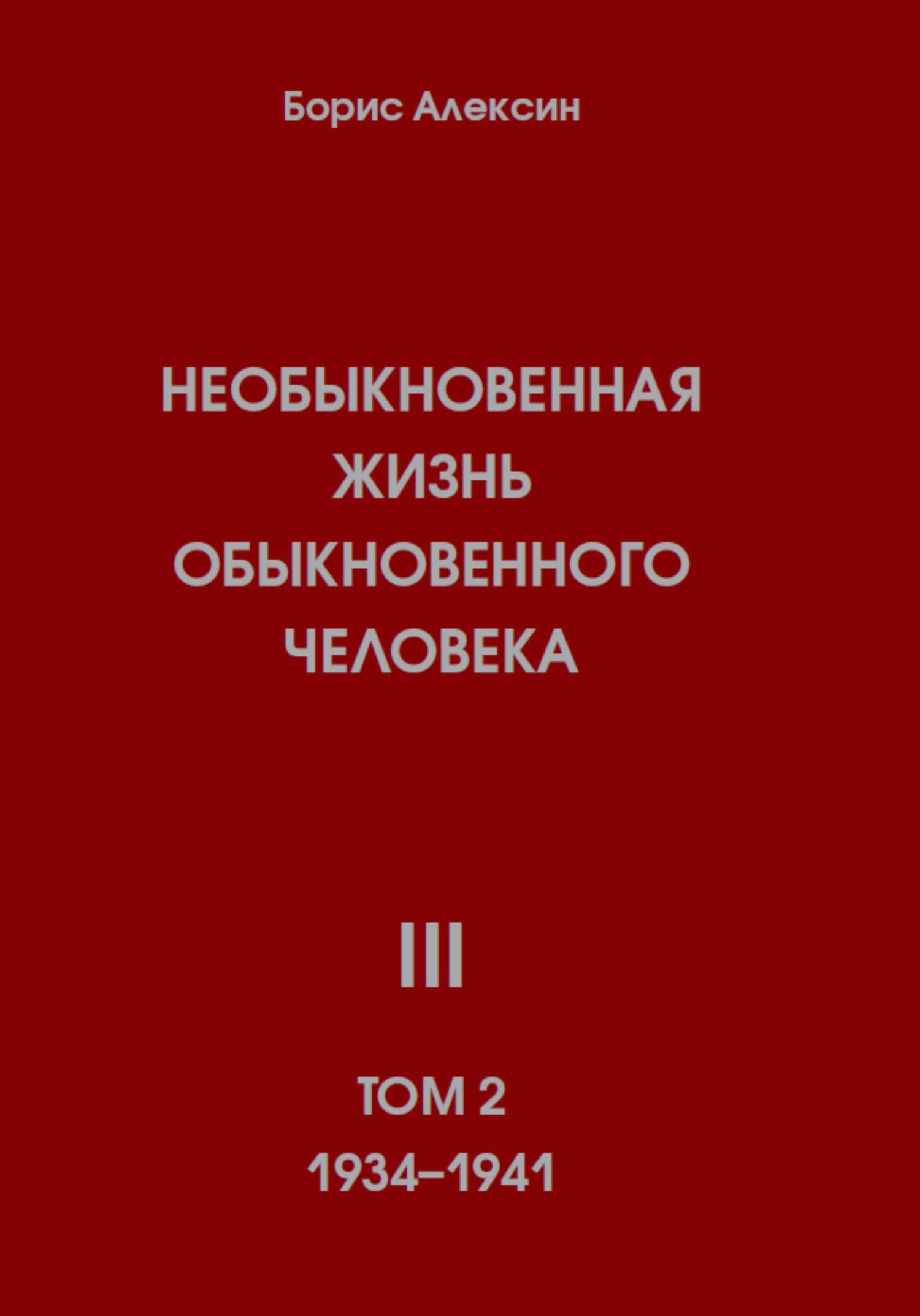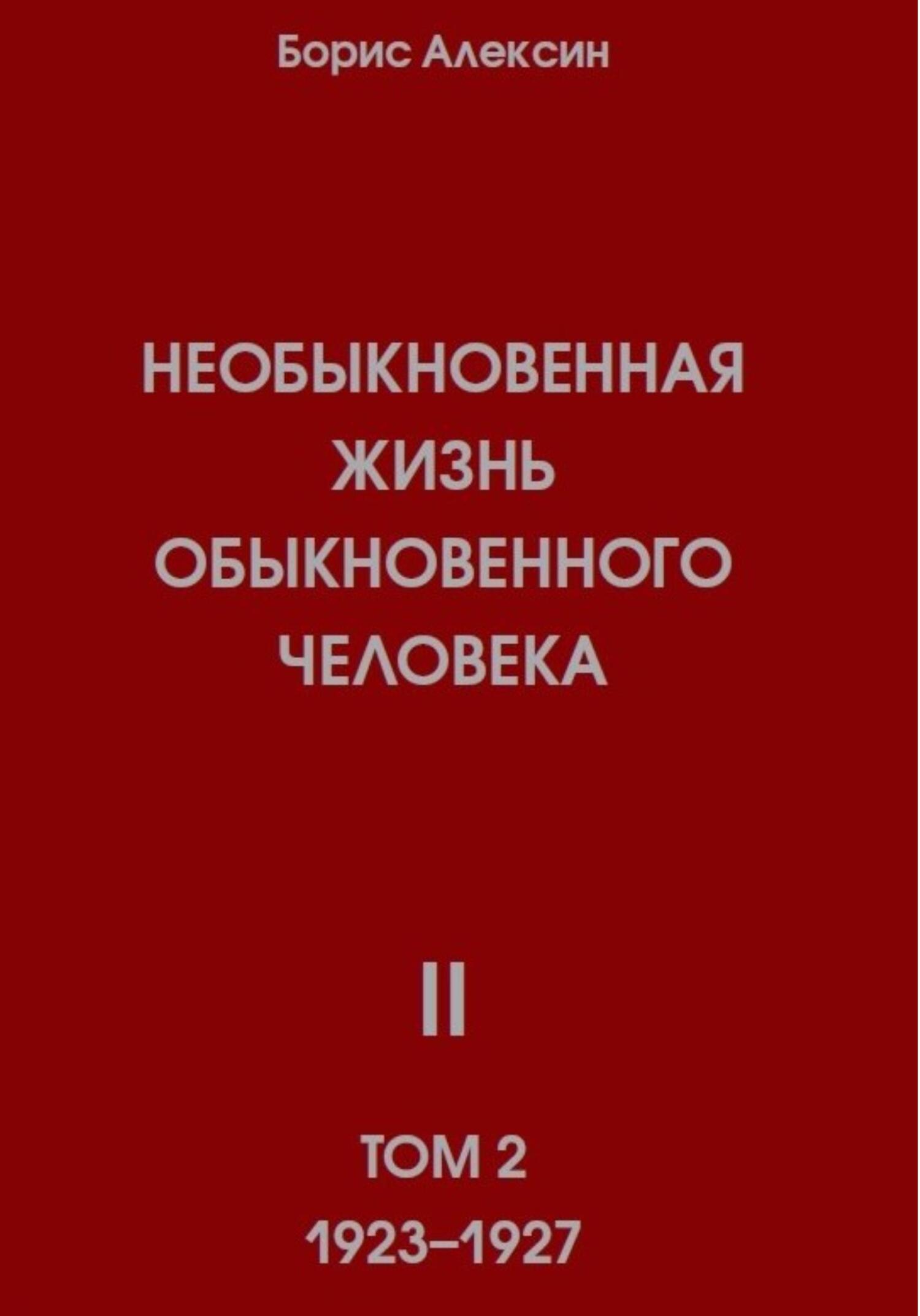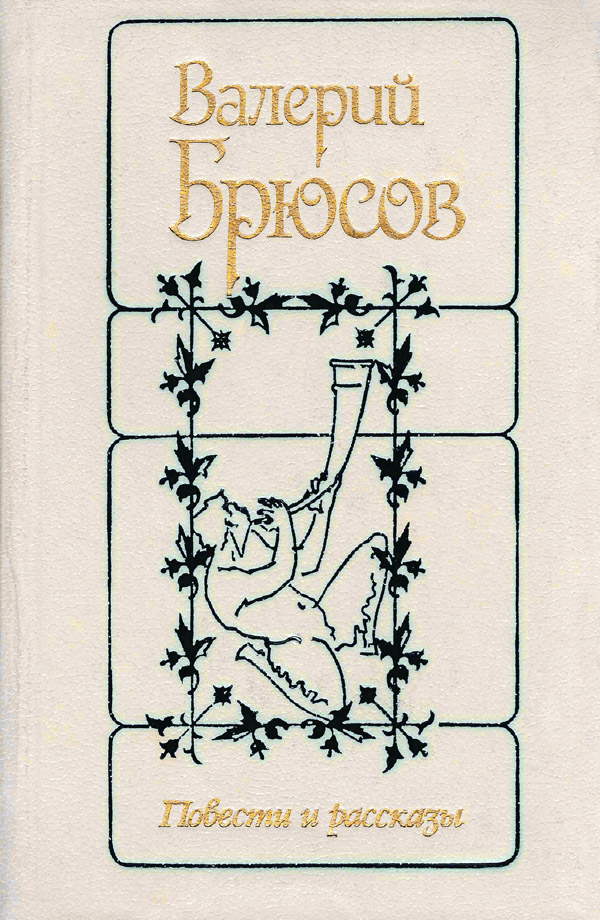Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Продолжение романа. Первый том книги четвёртой начинается с событий воскресного дня 22 июня 1941 года. Героя книги ждёт сначала работа в призывной комиссии, затем мобилизация на фронт и служба в медсанбате. Честно и непредвзято показаны первые месяцы войны: формирование эшелонов, ошибки в организации медслужбы, первая бомбёжка, первые раненые, развёртывание санитарного батальона, установка палаток и рытьё землянок, случаи членовредительства и первый трибунал, блокада Ленинграда, голод, потери друзей и отчаянная вера в победу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Борис Яковлевич Алексин»: