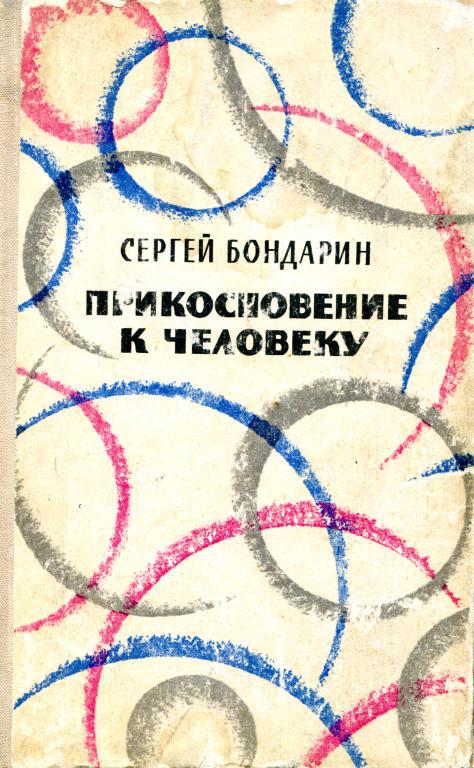Шрифт:
Закладка:
В море рыбак думает о земле, а что еще чудесней — и в пучинах подводного царства рыбак привык усматривать жизнь по знакомым образам земной жизни. Об этом и сказано в сказках. И хороший рыбак не загубит ее жизнь.
В сером рыбацком поселке я любил бывать в гостях, и чуть ли не в каждой семье я видел то, о чем много лет тому назад мечтал наш комбриг: дети знали ноты, занимались музыкой. И лишний раз убедился я здесь еще и в том, что не может человек жить без дерева, без сада. Подумать — как много и всегда значил для человека сад, лес, как дорого ему одинокое дерево где-нибудь в пустыне, на скале. Взрослые песни и детские страхи, вдохновение великих поэтов, их символы — деревья! Деревья! Деревья! Я знал людей большого, беспокойного, возвышенного воображения. Они считали, — да ведь так же думают и народы, — что дерево — одно из величайших чудес мира. Подумать — из крупицы произрастает краса, раскидывается, цветет, шумит, радует своей могучей и нежной красотой. В тени деревьев улавливается все человеческое, улов тем богаче, чем шире раскинулись ветви… «Человек, взрастивший дерево, не напрасно прожил жизнь».
Вот эти последние слова — они не мои — и напомнила их та же женщина, судья, не допустившая снисхождения для рыбака, сломавшего зеленую ветку.
— Ты и сети порвешь — не починишь, — продолжала наступать она на осужденного. — Куда?! Скажи нам, куда ты девал ее?
— Выбросил в море, — угрюмо ответил наконец посрамленный рыбак.
Женщина поерзала на стуле, у нее, видимо, перехватило дыхание, потом сказала:
— Так я и знала! И теперь плывет зеленая ветка, пол-дерева плывет по океану, качается, как заблудшее бревно… Видел, встречал такие бревна?
— Видел… Встречал…
— Где видел?
— За Японией.
— Видел. Ну и что же? Опять молчишь? Неприкаянное плывет оно, качается на волне, прости господи, как утопленник. Одна отрада — сядет на нее птица. Что увидеть такое бревно в океане, что попадется тебе там кем-то оборванная сеть — для рыбака одно впечатление, А тут не бревно — зеленое дерево, ветви… Ах, ты!.. Хотя бы девушке поднес ветку, — может, поцеловала бы тебя. Да тебе нипочем и рыбьи гнезда сгрести на нерести, — знаю! Будешь сапогами по икре ходить, — знаю! Это все одно для того, кто о живом не обеспокоен. Ну, а теперь, дружок, иди подумай. Время будет. Ступай. Попрощайся с матерью.
Больше, пожалуй, сказать нечего. Рыбаки согласились с судьей.
ВОЛНЕНИЕ ДУШИ
Воспоминание о Вале Лобзиковой не только приятно — оно тревожно и значительно.
Конечно, встреча с нею была неизбежной: не мог я не услышать хоть что-нибудь в ответ на свои размышления о женщинах, идущих в океан. Не первый год плавают они на китобойцах, рыболовецких сейнерах и траулерах — буфетчицы, поварихи, лаборантки, уборщицы, а то и просто матросы-обработчики, — нарушая вековечный запрет на женские души в экипажах кораблей.
И сейчас не одна только Валя шла на смену тем, кто долгие месяцы держался в море, но она — Валя Лобзикова — казалась особенно женственной и очаровательно юной. Ее замечали сразу.
До того вечера на 51-й параллели, когда мы в первый и в последний раз поговорили с глазу на глаз, я часто видел ее на верхней палубе, где, не обращая внимания на качку и ветер, развлекались пассажиры-рыбаки: пересовывали с квадрата на квадрат, как маленьких детей, гигантские шахматные фигуры или с дикими выкриками день и ночь дулись на мокрой палубе в палубный хоккей.
— Пираты, на крючки! — орали в одной партии. — Бей по ногам, вали на абордаж, вываливай… О-го-го!..
— Двадцать… двадцать пять, — насчитывали в противной победоносные очки: удачно брошенная шайба накрывала желанный квадрат высшего значения.
Моя каюта была рядом, и бурный азарт игроков не раз подымал меня среди ночи. Потом крики утихли. И я стал слышать нежный и повелительный женский голос:
— Верни шайбу, Вовка! И среди пиратов бывают джентльмены.
Теперь игра протекала спокойней, хотя вокруг игроков теснилось еще больше народу. В игру включалась Валя, и вскоре ее признали чемпионкой. Любо было смотреть, как уверенно выигрывала партию за партией девушка — ловкая, на стройных ножках, обтянутых японским гимнастическим трико, весело разрумянившаяся, с веселыми и задорными глазами, на которые то и дело спадала прядь черных, модно подстриженных волос.
Иногда я видел Валю в одиночестве. Она подолгу стояла у борта, прислушиваясь к шуму волны, озирая океан, и право, издалека следя за нею, я чувствовал в девушке не обычную в этих случаях мечтательность, а, скорее, любопытство и нетерпение. Она провожала внимательным, изучающим взглядом больших, слегка покачивающихся на лету, спокойных буревестников, юрких нырков — маленьких смелых птичек, сначала с японских берегов, а потом с берегов Аляски и Канады. Иногда она появлялась в обществе молодого, прославленного среди рыбаков капитана, который шел на свой траулер. С капитаном я был уже знаком, беседы с ним, нередко принимавшие неожиданный оборот, многое объяснили мне, рассказали о рыбаках океана, кое-что я успел узнать от него и о Вале, но почему-то — странное дело — я все уклонялся от его предложения познакомить меня с нею.
И в тот последний вечер, еще на закате, я опять долго разговаривал с капитаном, и опять невольно наш разговор коснулся Вали Лобзиковой… Да, забыл я сказать, что Валя прежде никогда не видела не только океана, но даже широкой реки. Великие сибирские реки она увидела, переезжая через них по мостам, недавно, когда ехала из своей Пензы на Дальний Восток по оргнабору, ей было девятнадцать лет, и самым сильным впечатлением ее жизни было посещение Пензенской картинной галереи и Лермонтовского дома-музея в Тарханах.
С особенным удовольствием и не без сочувственной ухмылки капитан рассказал и о том, как однажды — еще девочкой — Валя сбежала из дому в Тарханы и, изнемогая от страха, все-таки заставила себя остаться на ночь в лермонтово-арсеньевском мавзолее, рассчитывая побеседовать в полночь с Лермонтовым. «Это