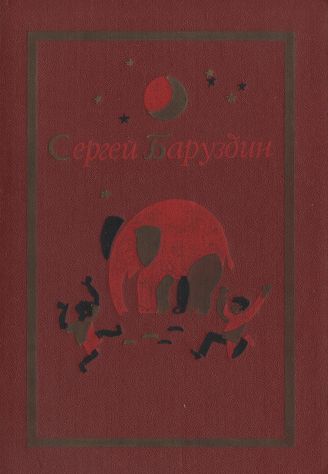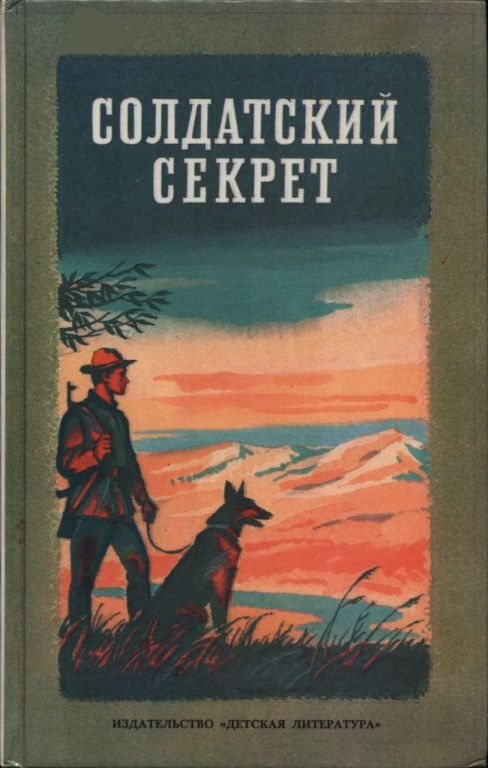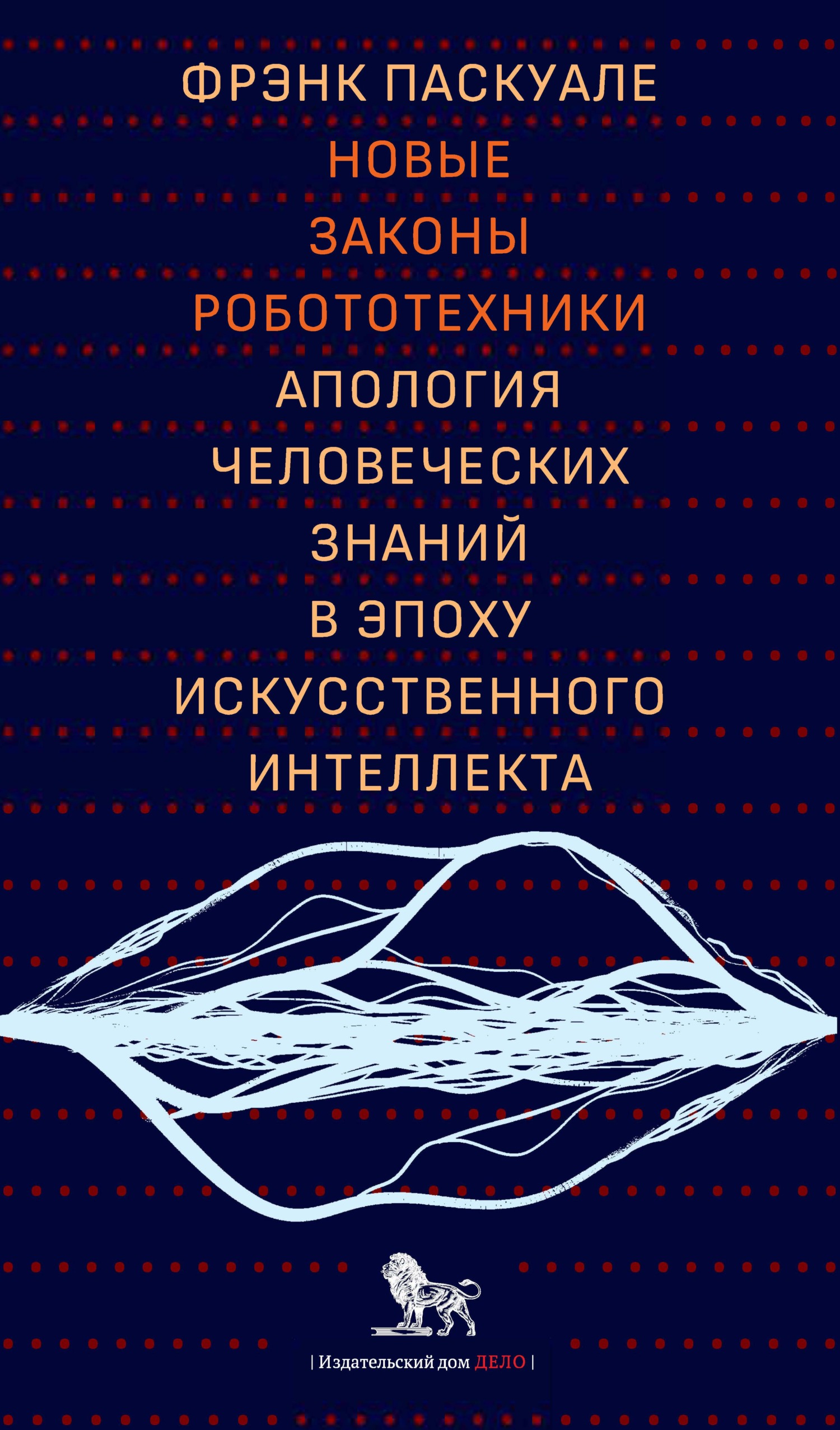Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В первый том собрания сочинений в ходят: «Шаг за шагом» (стихи), повесть «Большая Светлана», рассказы «Страна, где мы живем», рассказы о животных, короткие сказки. Для младшего школьного возраста. Оформление Ф. Лемкуля
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Алексеевич Баруздин»: