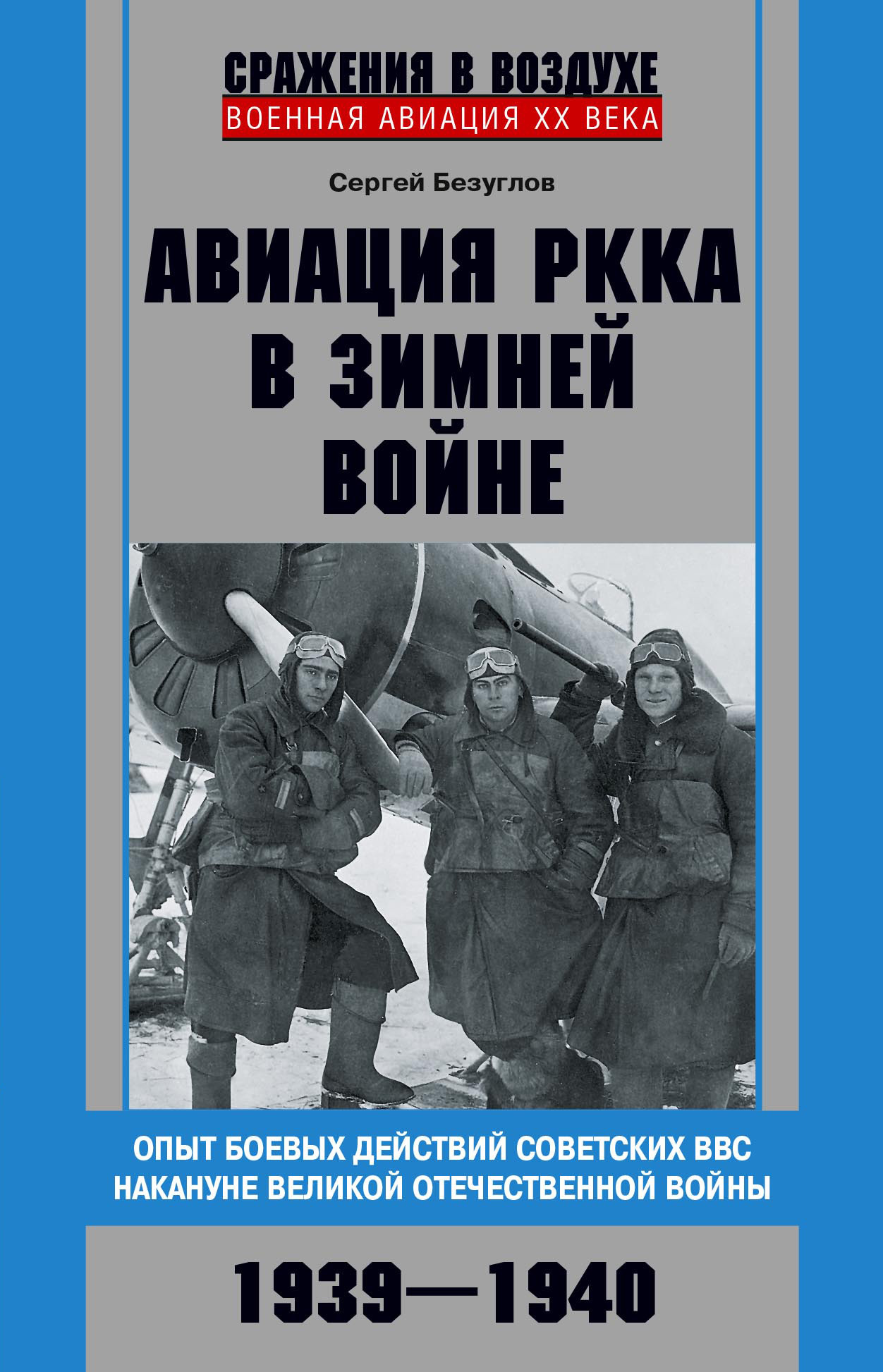Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Что на самом деле автор «Лолиты» и «Дара» думал о науке – и как наука на самом деле повлияла на его творчество? Стивен Блэкуэлл скрупулезно препарирует набоковские онтологии и эпистемологии, чтобы понять, как рациональный взгляд писателя на мир сочетается с глубокими сомнениями в отношении любой природной или человеческой детерминированности и механистичности в явлениях природы и человеческих жизнях.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Стивен Блэкуэлл»: