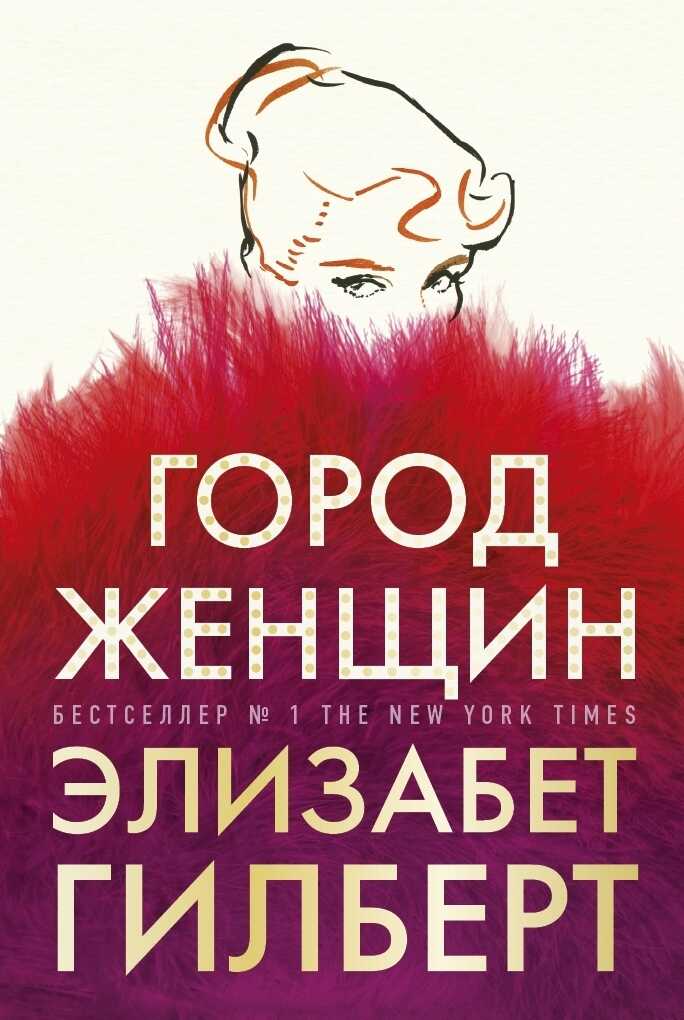Шрифт:
Закладка:
Я открыла было рот, чтобы заговорить, излить очередную порцию бессвязного бреда, но Эдна меня остановила:
– Не позорься, дорогая, лучше помолчи. Ты уже сказала достаточно.
Она произнесла эти слова с подобием улыбки, даже с подобием нежности, чем окончательно меня добила.
– И еще кое-что, Вивиан. Знай, что твоя подруга Селия уделяла тебе столько внимания лишь потому, что считала тебя аристократкой. Но ты не аристократка. А ты уделяла ей столько внимания лишь потому, что считала ее звездой. Но она не звезда. И никогда ею не станет, как и ты никогда не станешь аристократкой. Вы просто обычные девочки, каких пруд пруди. Такие обычные, что тошно. Вы – типаж, Вивиан. Таких, как вы, миллионы.
Сердце у меня сжалось до мизерных размеров, превратившись в мятый комочек фольги, раздавленный в ее изящном кулачке.
– Хочешь узнать, Вивиан, как тебе из типажа превратиться в личность?
Наверное, я кивнула, потому что она продолжала:
– Я тебе скажу. Никак. Сколько ни старайся сделать свою жизнь значительной, у тебя ничего не выйдет. Ты всегда будешь никем, Вивиан. Никогда и ни при каких условиях не обретешь ни малейшего значения.
Она ласково улыбнулась.
– А еще я готова поспорить, что совсем скоро ты вернешься домой, к родителям. Туда, где тебе самое место. Ведь так, дорогая?
Глава двадцать первая
Следующий час я простояла в телефонной будке в дальнем углу круглосуточной аптеки, пытаясь дозвониться до брата.
Я обезумела от отчаяния.
Можно было воспользоваться телефоном в «Лили», но я не хотела, чтобы кто-нибудь услышал мой разговор, да и стыдилась показываться на глаза обитателям театра. Потому и побежала в аптеку.
Уолтер оставил мне номер офицерской школы в Верхнем Вест-Сайде и велел звонить только в чрезвычайной ситуации. Что ж, чрезвычайная ситуация настала. Но в одиннадцать вечера в школе никто не брал трубку. Это меня не остановило. Я упорно опускала монетку в щель и слушала бесконечные гудки на том конце провода. Выжидала двадцать пять гудков, затем вешала трубку и звонила снова – тот же номер, та же монетка. И все это время рыдала. До икоты.
Действия приобрели автоматизм: набрать номер, сосчитать гудки, повесить трубку, услышать звук падающей монеты, достать ее, снова опустить в щель, набрать, сосчитать, повесить. Всхлипнуть, икнуть.
И вдруг в динамике раздался голос. Злобный голос.
– ЧТО НАДО?! – проорал он мне в ухо. – Кто это, черт возьми?!
Я чуть не выронила трубку. Я впала в такой глубокий транс, что позабыла, зачем нужен телефон.
– Не могли бы вы позвать Уолтера Морриса, – опомнившись, пролепетала я. – Пожалуйста, сэр. Это срочно. Семейное дело.
Мой собеседник обрушил на меня поток ругательств («Совсем из ума выжила, малявка, звонить в такой безбожный час!») и, само собой, прочел лекцию о том, в какое время положено и не положено тревожить приличных людей. Но гнев его был не чета моему отчаянию. Громогласная лекция о соблюдении протокола ничего для меня не значила. В конце концов человек на том конце провода, верно, сообразил, что его правила в моем случае не действуют, и отправился на поиски моего брата.
Я долго ждала, скармливая монеты телефонному аппарату, пытаясь собраться и слушая собственное прерывистое дыхание.
Наконец подошел Уолтер.
– Что стряслось, Ви? – спросил он.
Услышав голос брата, я снова перестала владеть собой и рассыпалась на тысячу маленьких кусочков. А потом сквозь слезы и икоту все ему выложила.
– Ты должен забрать меня отсюда, – взмолилась я, когда он дослушал до конца. – Должен отвезти меня домой.
Ума не приложу, как Уолтер сумел так быстро все организовать, да еще и посреди ночи. Не знаю, как у них все устроено в армии – увольнительные и прочее, – но для моего брата не существовало ничего невозможного, и он все решил. Я ни капли в нем не сомневалась. Я знала: Уолтер способен исправить что угодно.
Пока Уолтер готовил мой побег (договаривался об увольнительной, искал машину), я собирала вещи – распихивала по чемоданам платья и туфли, дрожащими пальцами упаковывала швейную машинку. Потом я написала Пег и Оливии длинное слезливое самоуничижительное письмо и оставила его на кухонном столе. Не помню всего, что там говорилось, но послание сочилось истерикой. Потом я жалела, что просто не написала: «Спасибо, что заботились обо мне, и простите, что была такой идиоткой». У Пег с Оливией и без меня хватало проблем. Моя дурацкая двадцатистраничная исповедь была совершенно лишней.
Но они все равно ее получили.
Перед самым рассветом Уолтер подъехал к театру «Лили», чтобы забрать меня и отвезти домой.
Он был не один. Ему удалось найти машину, но в нагрузку к ней прилагался водитель – высокий худощавый юноша в такой же, как у Уолтера, форме курсанта офицерской школы; по всей видимости, его однокашник. Чернявый – похоже, итальянец, – он говорил с сильным бруклинским акцентом. Юноша поехал с нами; старенький фордик принадлежал ему.
Мне было все равно. Все равно, кто с нами ехал; все равно, кто видел меня в столь расстроенных чувствах, – я была в отчаянии и не замечала ничего вокруг. Я знала только одно: мне нужно уехать из «Лили» немедленно, прежде чем все проснутся и увидят меня. Я больше ни минуты не могла находиться в одном здании с Эдной. По сути, она в своей изысканной манере приказала мне убираться, и я четко и ясно услышала приказ. Я должна была уехать.
Сейчас же.
В голове стучало только одно: «Заберите меня отсюда».
Когда начало светать, мы миновали мост Джорджа Вашингтона. Я не могла заставить себя обернуться и посмотреть на Нью-Йорк, оставшийся позади. Это было невыносимо. Я покидала город, но мне казалось, будто его у меня отняли. Я показала себя с худшей стороны, продемонстрировала свою ненадежность, и этот город вырвали у меня из рук, как забирают у ребенка ценную хрупкую вещь.
Стоило нам переехать мост и очутиться за городской чертой, как Уолтер накинулся на меня. Впервые я видела его таким сердитым. Он никогда не выходил из себя, но сейчас совсем перестал сдерживаться. Сказал, что я опозорила семью. Напомнил, как мне повезло в жизни и как легкомысленно я