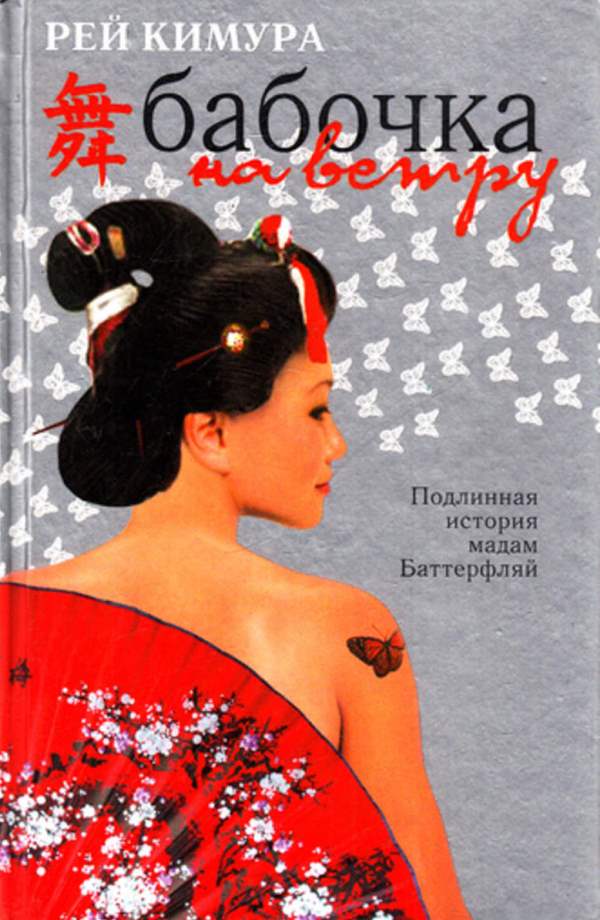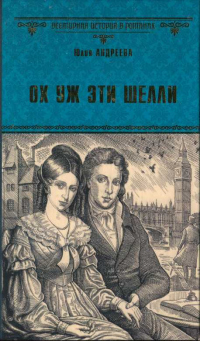Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Саша собирается уехать из родного города и начать новую, давно желанную жизнь, но неожиданное материнство перечеркивает все ее планы. Став жертвой синдрома отрицания беременности, она отчаянно пытается понять и принять реальность, в которой совершенно внезапно появился на свет ее ребенок. Реальность, в которой вся ее жизнь разваливается на части.Эта книга о выборе и о невозможности выбора. О праве на мечту и о невозможности мечты. Об отрицании окружающей действительности и о невозможности жизни за ее пределами. А также о нелюбви и о надежде на любовь и второй шанс.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Екатерина Алексеевна Ру»: