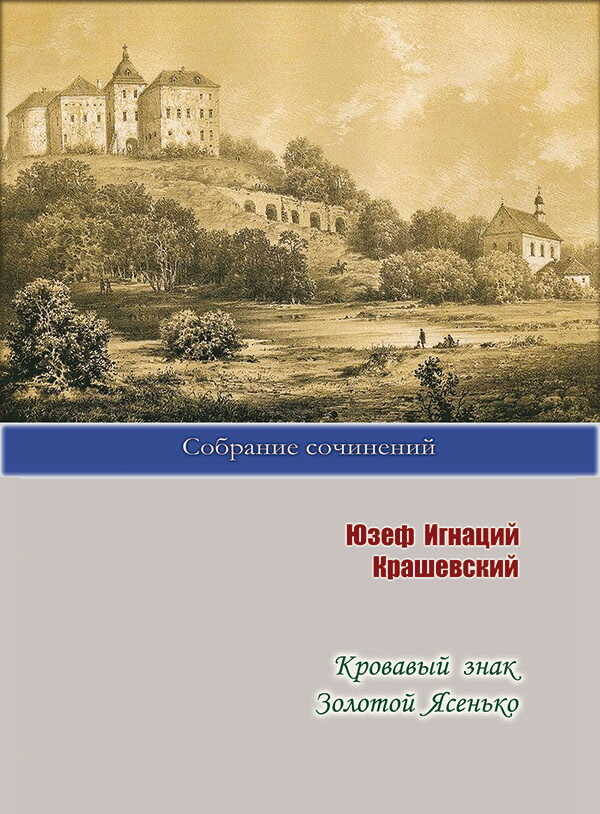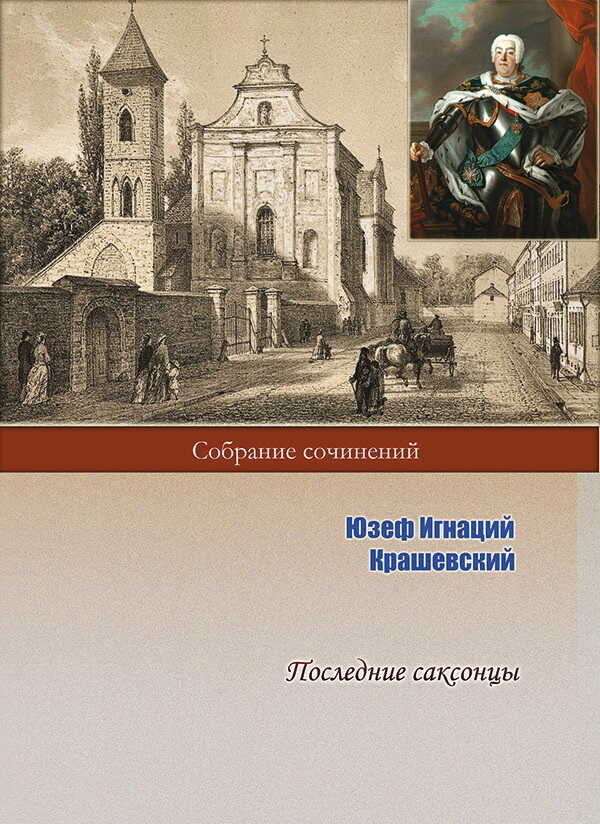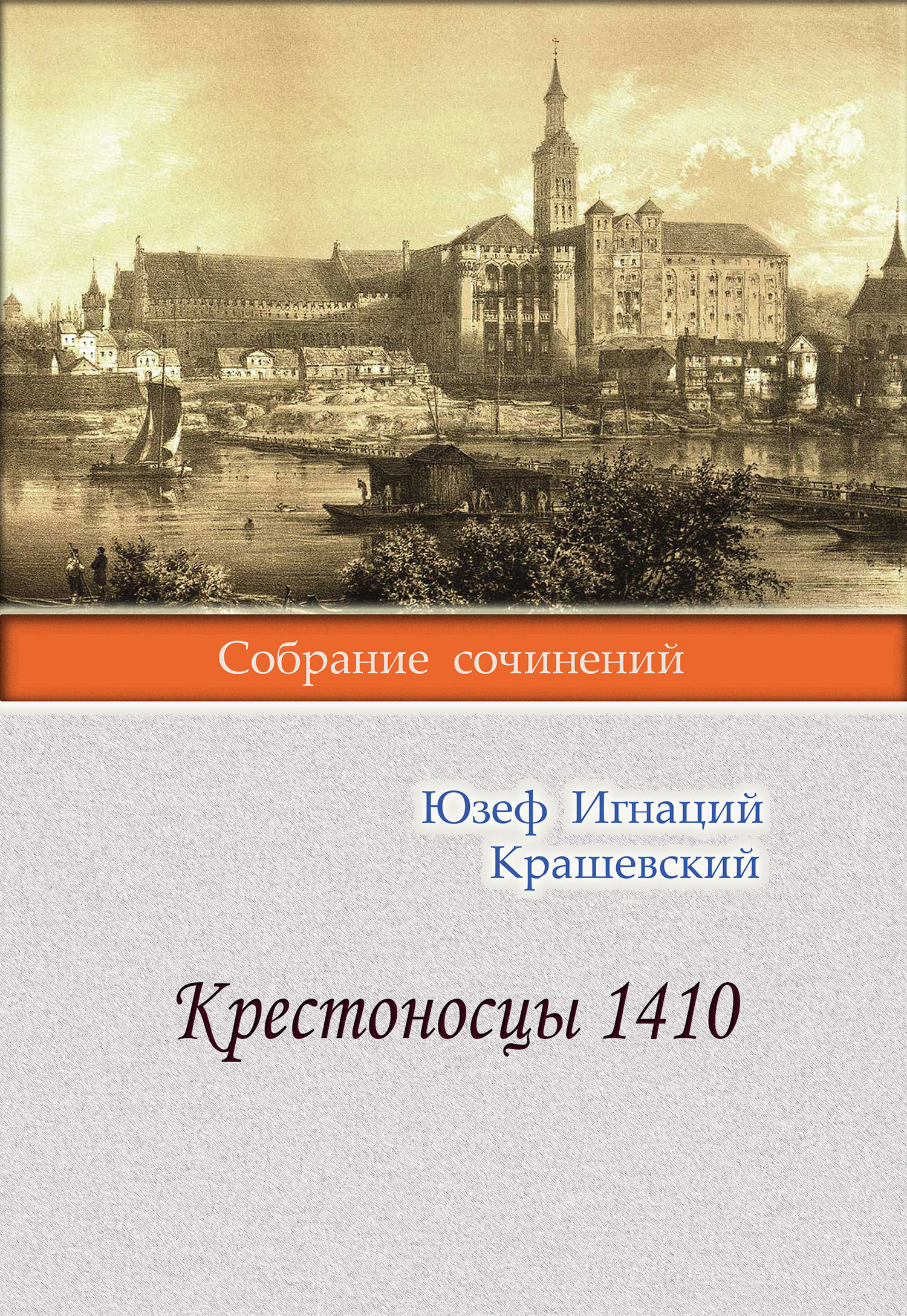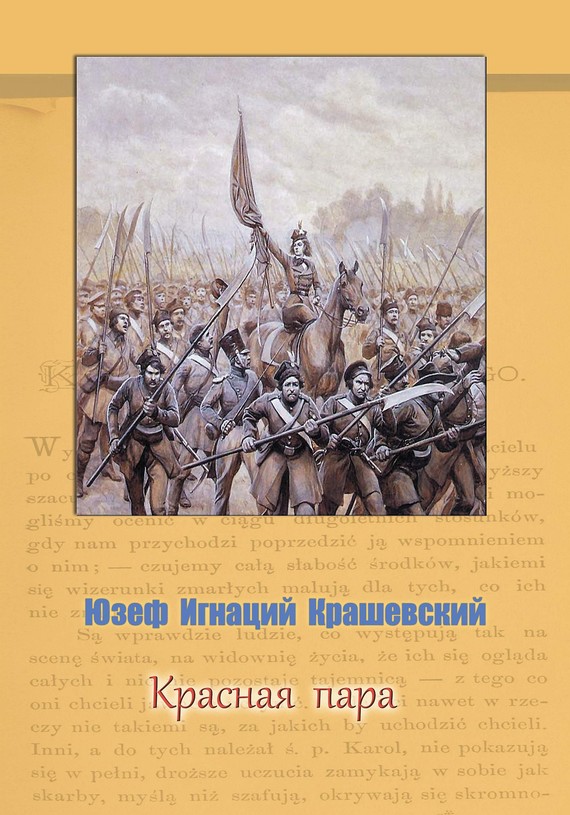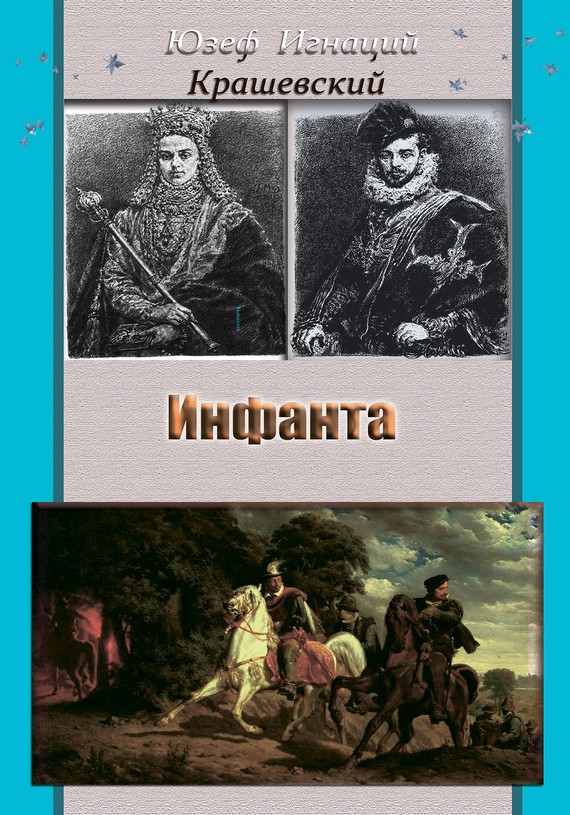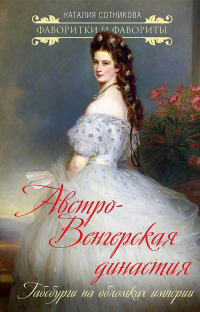Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Предпоследний, 28 роман из цикла История Польши знаменитого польского классика Ю. Крашевского продолжает тему Саксонской трилогии. В нём показаны приход к власти, первые годы правления Августа II в Польше, Северная война. Довольно интересна характеристика автора главных героев этой драмы: Августа II, Карла XII, Петра I, Паткуля, фавориток короля и др.Главный герой романа, саксонский купец Витке, пытается сделать карьеру на дворе нового короля. Он учит польский язык и погружается в водоворот придворных и военных интриг. Однако вскоре он разочаровывается Августом и всем двором, где всё построено на обмане. В целом роман хорошо показывает начальный период правления Августа.На русском языке роман печатается впервые.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Игнаций Крашевский»: