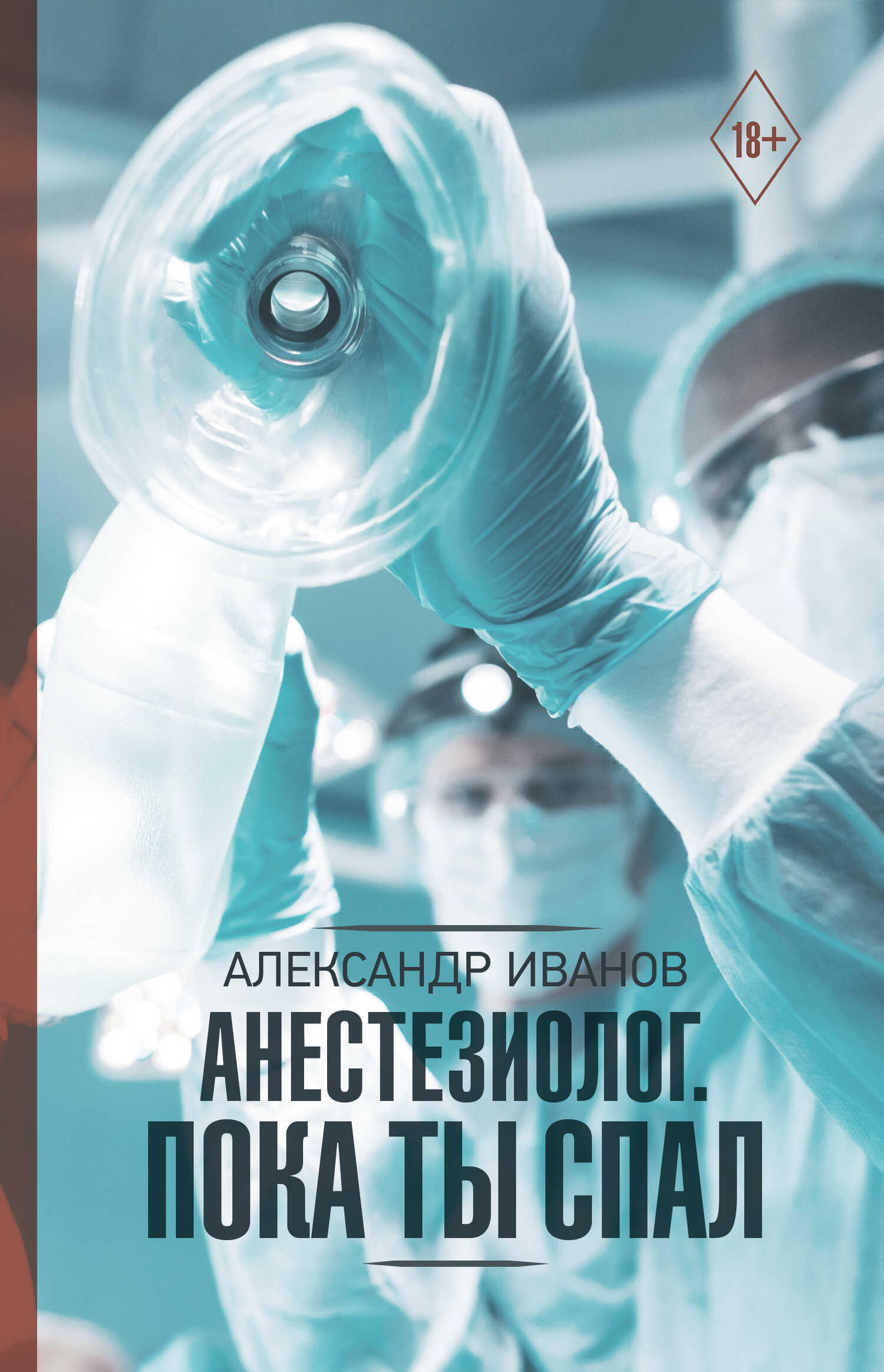Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
СССР, середина семидесятых годов. Фролов — невзрачный мужчина средних лет, презирающий себя и старательно приспосабливающийся под обстоятельства и большинство. Последние семнадцать лет он живет в общежитии с женой и сыном, стоит в очереди на квартиру… Но принесет ли счастье герою та самая квартира?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Даша Почекуева»: