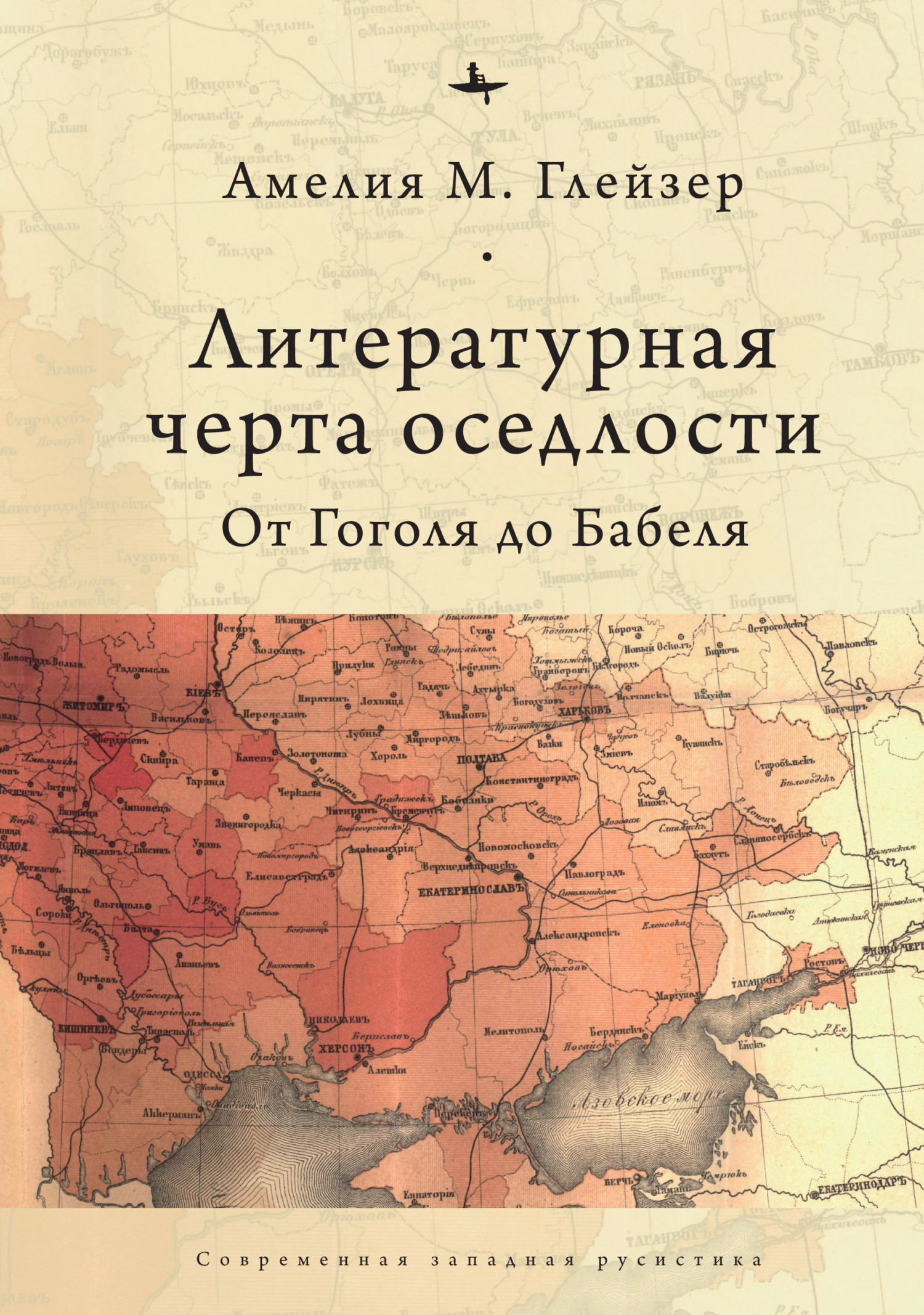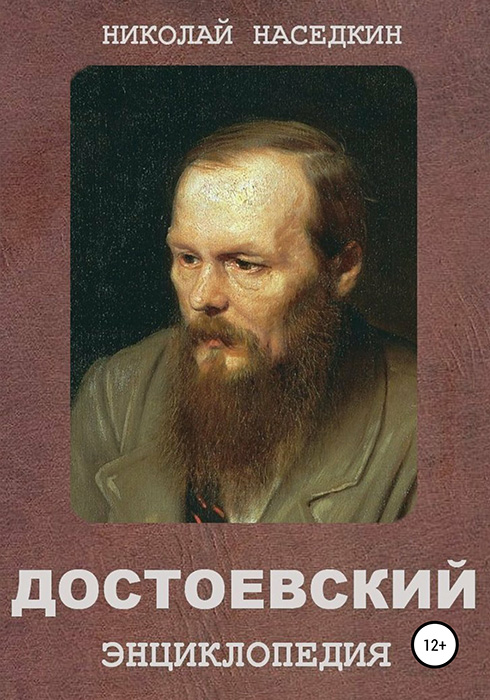Шрифт:
Закладка:
Что общего между Вещим Олегом и Змеем Горынычем? Кому принадлежат лавры первого русского поэта? Какова родословная богатырской троицы — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича? Какую истину исповедует капитан Лебядкин в романе Достоевского «Бесы»? Куда плывут алые паруса Грина? Есть ли смысл в бессмыслице Александра Введенского? На эти и многие другие вопросы отечественного литературоведения отвечает известный петербургский писатель, историк, эссеист Евгений Валентинович Лукин в своей новой книге «Милый друг Змей Горыныч», посвященной проблематике русского героического эпоса, русской классической литературы и русского художественного авангарда ХХ века. Отмечая ценность исследований Евгения Лукина, доктор искусствоведения Л. М. Мосолова подчеркивает своеобразие «методологии историко-культурологического дискурса, позволяющей сделать научные открытия в переосмыслении хрестоматийных стандартов фольклористики».