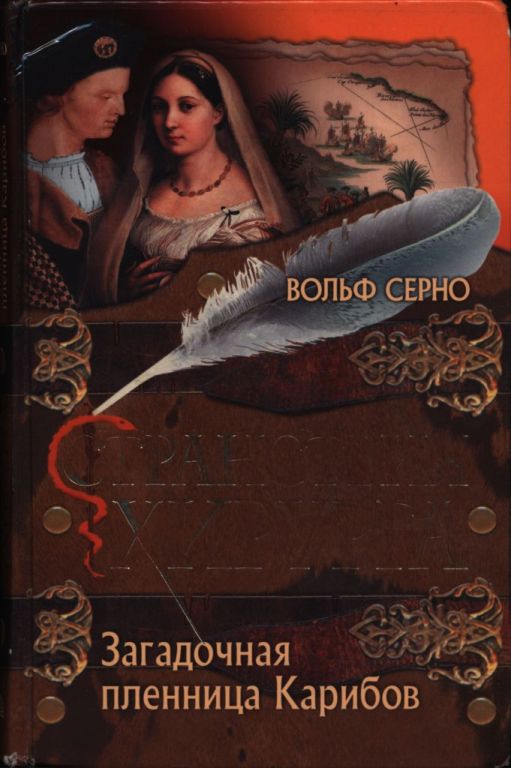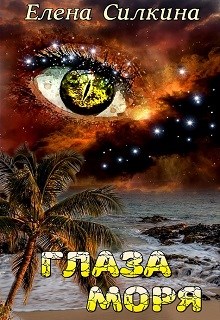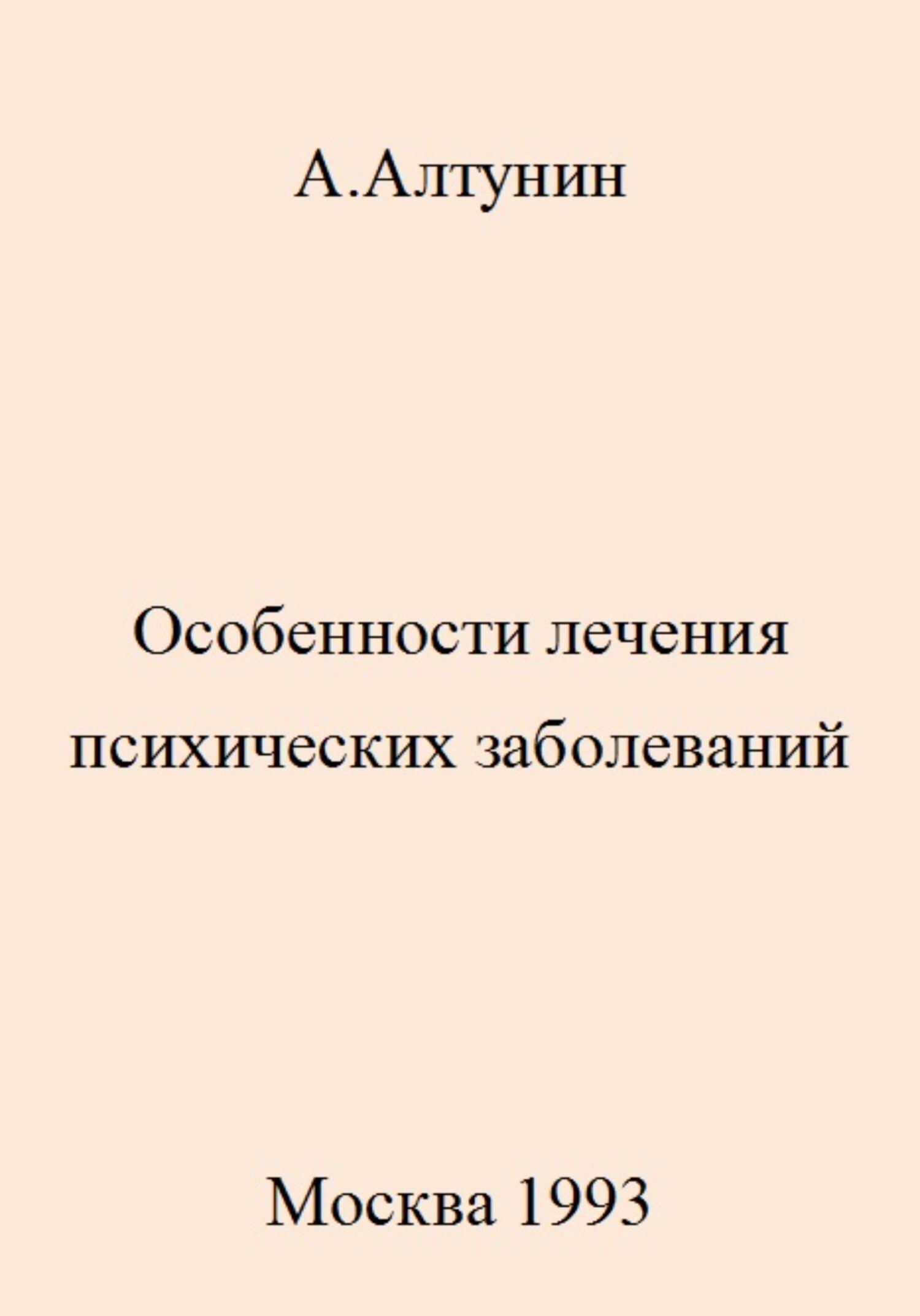Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Поздней осенью 1577 года судно «Галант» покинуло плимутскую гавань, унося в просторы бескрайнего океана троих друзей — корабельного хирурга Витуса, «неистребимого сорняка» Магистра и неунывающего Энано. Позади остались Англия, дом, где любят и ждут; впереди — полное опасностей путешествие к берегам Нового Света в надежде отыскать Арлетту. Подобно Орфею Витус готов идти за любимой хоть в преисподнюю, но кто знает, какие «муки ада» уготовила ему судьба?.. Однако, пока рука друга лежит на твоем плече, почему бы не дерзнуть и не сразиться со смертью — а там поглядим, кто кого.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вольф Серно»: