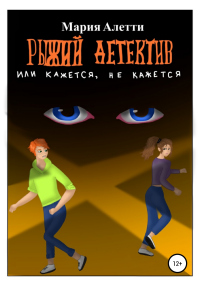Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
У Вовки есть заветное желание: поступить в универ и зажить самостоятельной жизнью, отдельно от родителей. Приложение «Джинн» обещает «быструю сбычу мечт», и Вовка знает, что у него попросить. Вот тогда-то и выясняется, что ее родители пропали, в квартире заводятся призраки, а на телефон поступают угрозы от анонима, которому известно про Вовку все…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анастасия Евлахова»: