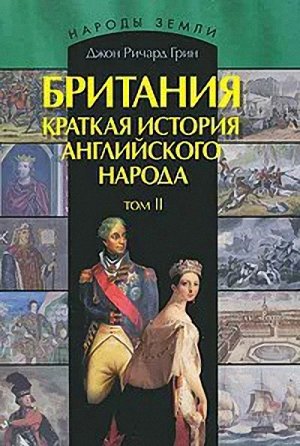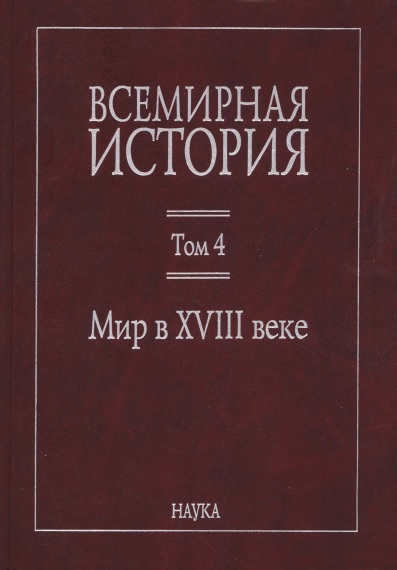Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Труд известного английского историка-позитивиста XIX в. Джона Ричарда Грина (1837–1883) охватывает огромный пласт истории Великобритании — с высадки англов на Британские острова в V в. до 70-х годов XIX в. В нем освещаются различные исторические аспекты: образование и становление Английского королевства, процесс феодализации и политического объединения страны, междоусобицы и войны, возникновение парламента и оформление сословной монархии, образование политических партий, создание англиканской церкви в период Реформации и колониальные завоевания… Особая познавательная ценность и увлекательность произведения сохранились до наших дней.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джон Ричард Грин»: