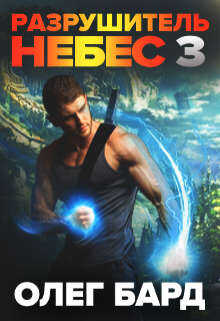Шрифт:
Закладка:
Это четвертая книга цикла. Первая книга: https://author.today/reader/300411/2731328 Мне было сорок шесть, когда я умер и вернулся в себя четырнадцатилетнего. Преступно не воспользоваться знаниями о том, что случится в будущем! Но если долго влияешь на реальность, реальность начинает влиять на тебя. И пытается отторгнуть чужака. В конце концов ей это удается. Теперь мне по-настоящему четырнадцать, у меня проблемы, которые не каждому взрослому под силу, я собираюсь ввязаться в финансовую афёру. Те, кого я в школе терпеть не мог, считают меня другом и лидером команды. Как это расхлебывать? Единственное, что осталось - знания меня-взрослого. Достаточно ли их, чтобы добиться целей, которые поставил человек, которым я всю жизнь хотел стать?