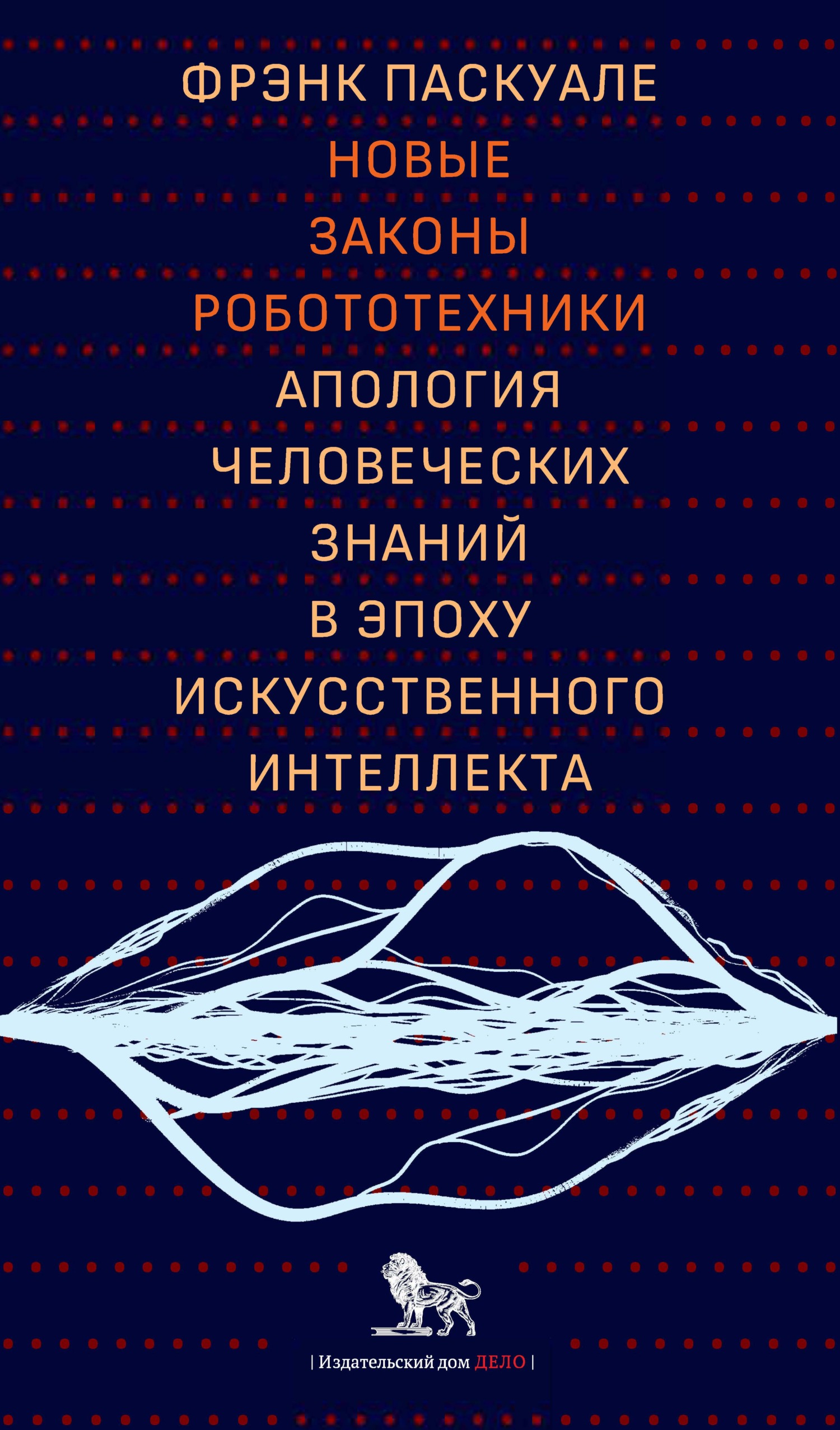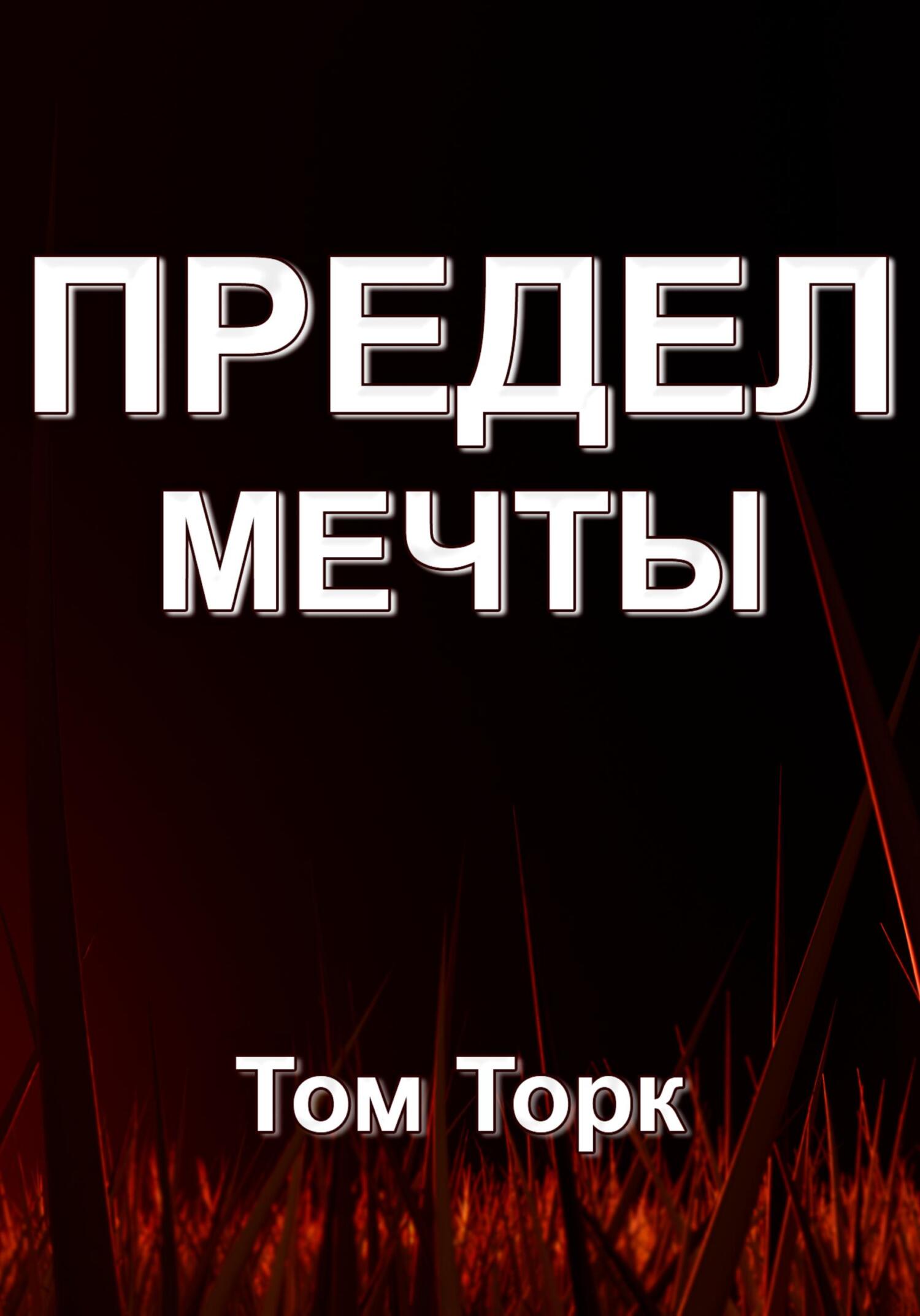Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первая книга дилогии, входящей в цикл "За горизонт". Она раскрывает мир, описанный в книге "Первый шаг", но новой историей и новыми героями.Двадцать третий век на планете Земля. Наступило время, которое каждый из нас назвал бы светлым будущим. В нём нет границ, нет власти денег, каждый свободно может реализовать себя, он толерантен и свободен от предрассудков. В этом мире живёт Олег – молодой амбициозный учёный-астрофизик. У него любимая жена, признание в науке, блестящие перспективы. Живёт вполне себе счастливо, до тех пор, пока однажды мир его не перевернётся. Нет, внешне всё останется по-прежнему: та же работа, та же любимая жена. Но как же так получилось, что она стала невыносимо чужой, что он чуть не убил человека и потерял всё, что имел? Эгоизм, несовместимость или судьба, которая приведет его туда, где он откроет другой мир, вернее себя для мира? Это книга о тебе, читатель. О том, кто ты и зачем пришёл в этот мир.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сабина Янина»: