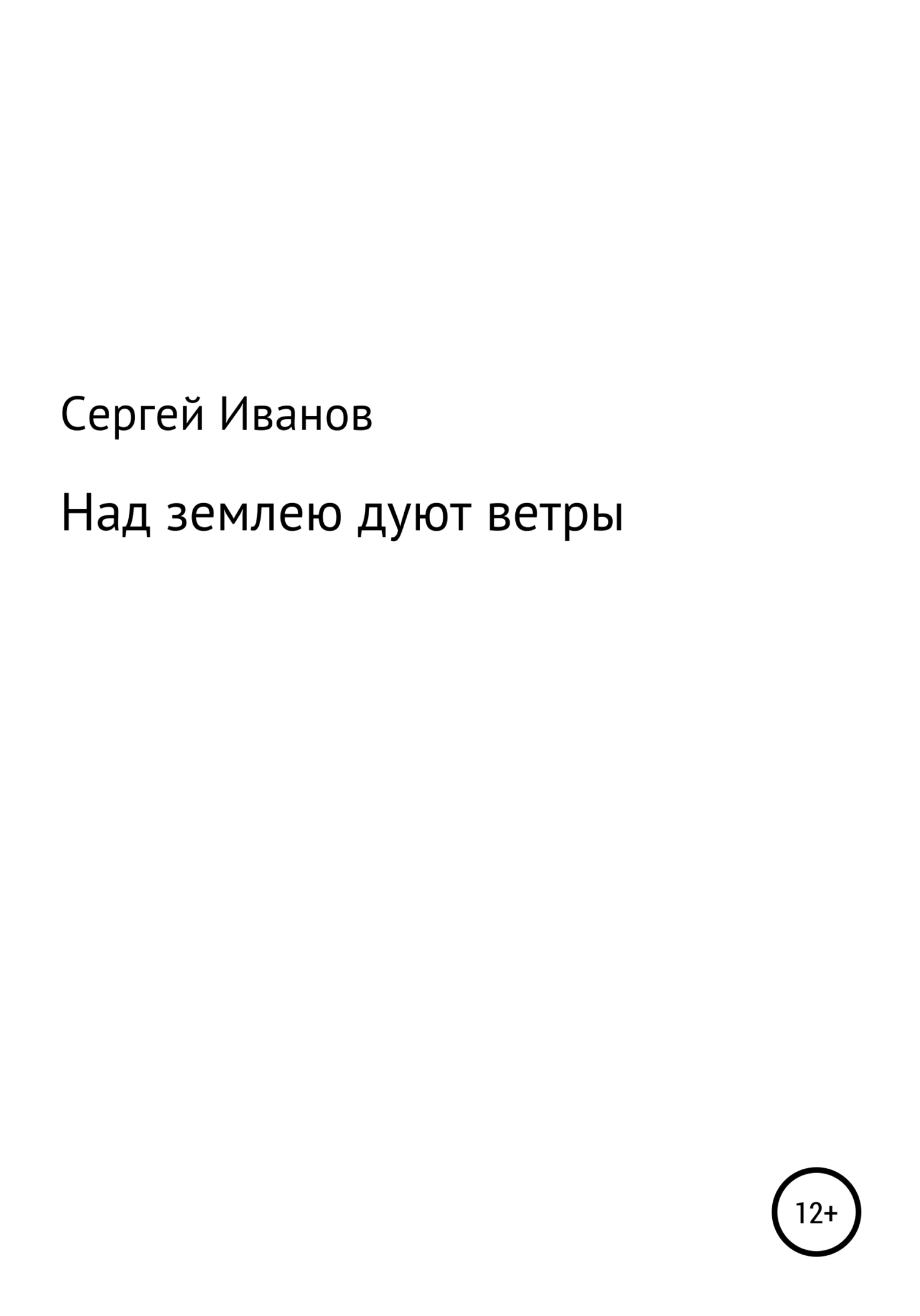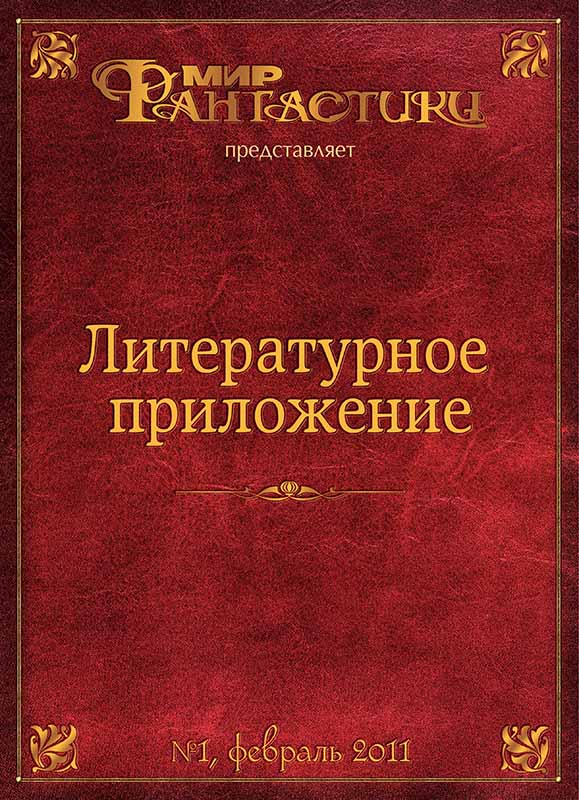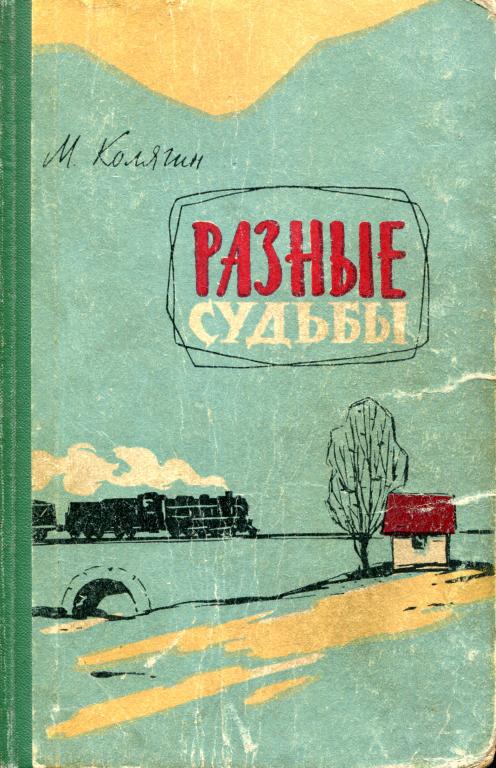Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Валентин Рыбин — автор известных читателю исторических романов «Море согласия», «Государи и кочевники», «Перелом». В настоящую книгу вошли два его романа: «Государи и кочевники» и «Перелом», объединенные общей темой. Исторической основой для написания романов послужили события второй половины XIX века, связанные с присоединением Туркмении к России.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валентин Фёдорович Рыбин»: