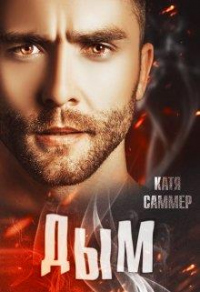Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
У мадам Аллигори Крокодилы свадьба! Многие сочтут это странным, в ее-то годы, но погулять никто не против. А поскольку все дело происходит в Хрусталии — городе, который живет снами, идеями и культурной жизнью, — подходит невеста к торжеству ой как серьезно. Вот и зовет организовать праздник лучшего свадебного церемониймейстера всех семи городов, у которого есть и свои планы… Ну, говоря откровенно, у каждого свои планы на свадьбу. Кроме самой невесты. К этому добавляются бесконечные хлопоты, бывшие мужья, городские сумасшедшие и много-много дыма. Но все это отходит на второй план, когда внезапно появляется жизнь — в буквальном смысле. И что бы вы думали? На нее у каждого тоже свои планы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Денис Лукьянов»: