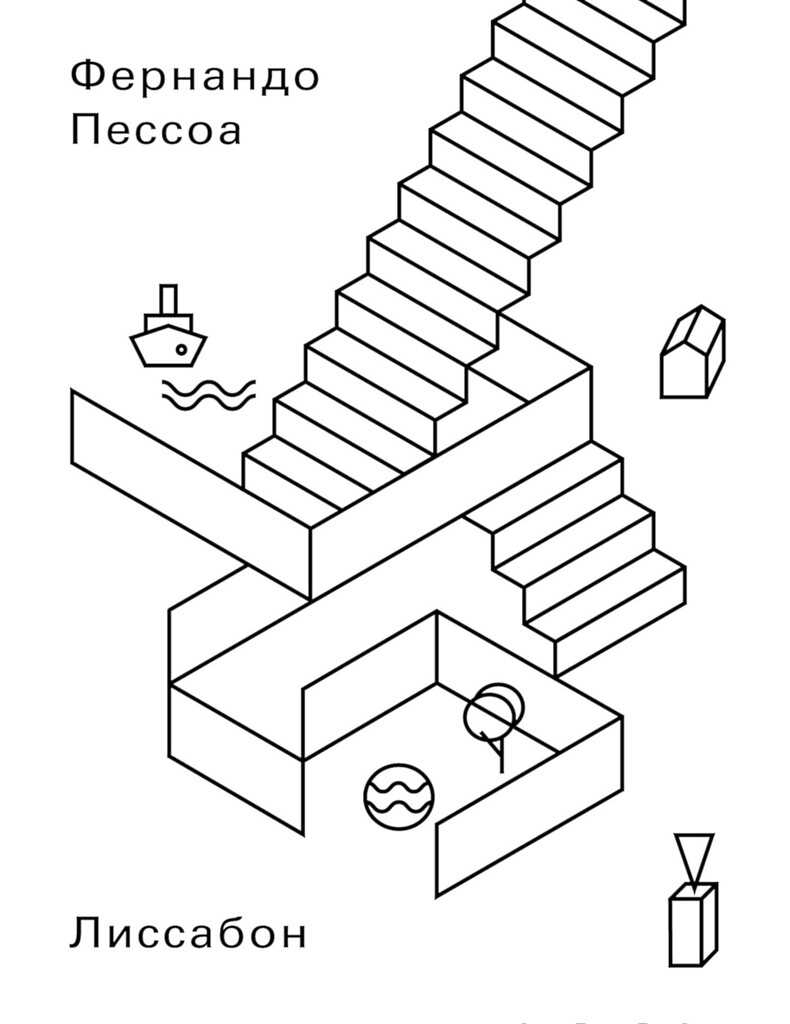Шрифт:
Закладка:
Эта книга – результат многолетних встреч Эннио Морриконе и молодого композитора Алессандро Де Розы. Она по-новому раскрывает творчество Морриконе, который известен российской публике в основном по музыке к таким фильмам, как например: «Профессионал», «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой». Морриконе подробно рассказывает о своей жизни и блестящей карьере: об учебе в консерватории, аранжировках многих популярных композиций и о создании своих собственных произведений, а также о сотрудничестве с самыми известными итальянскими и зарубежными режиссерами – от Леоне до Пазолини, Бертолуччи и Торнаторе, от Де Пальмы до Альмодовара и Тарантино.Маэстро впервые открывает двери своей творческой лаборатории, знакомя читателя со своими идеями и достижениями. Один из самых блестящих композиторов нашего времени, он рассказывает нам, что для него значит сочинение музыки, описывает связь музыкальных композиций с образами в кино и свои некоммерческие творческие эксперименты. События из жизни переплетаются с профессиональными замечаниями маэстро о музыке, а в конце книги собраны воспоминания тех, кому доводилось работать с Морриконе.27 января 2022 года в Италии вышел новый документальный фильм оскароносиого Джузеппе Торнаторе, посвященный Эннио Морриконе «ENNIO». Книга «В погоне за звуком» является основным источником фильма, благодаря участию Алессандро Де Розы в качестве композитора и официального биографа маэстро. Фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар» 2022 года в разделе «Приз Академии за лучший полнометражный документальный фильм».В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.