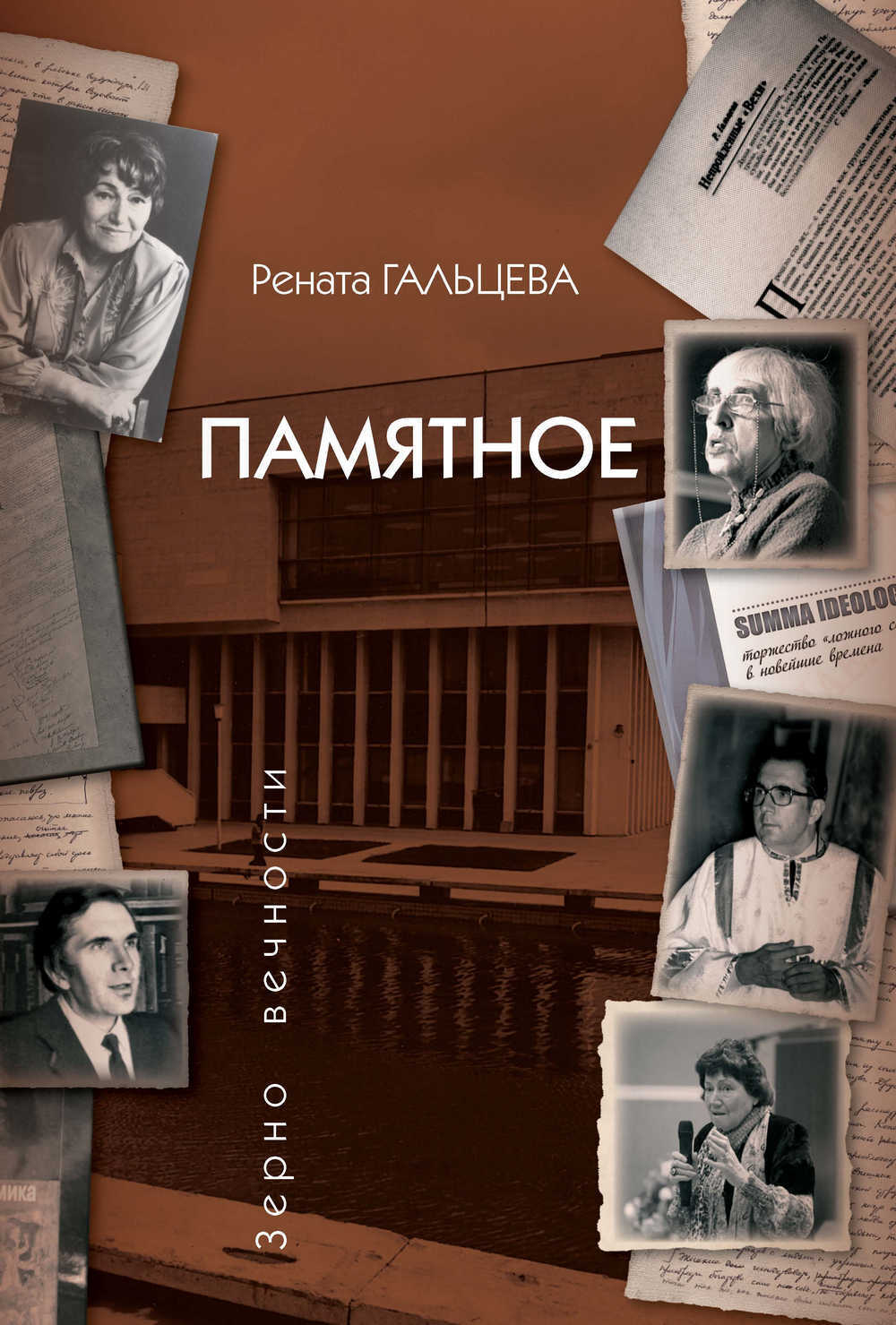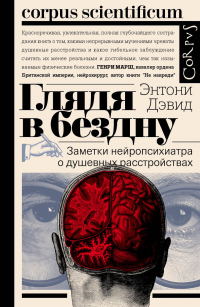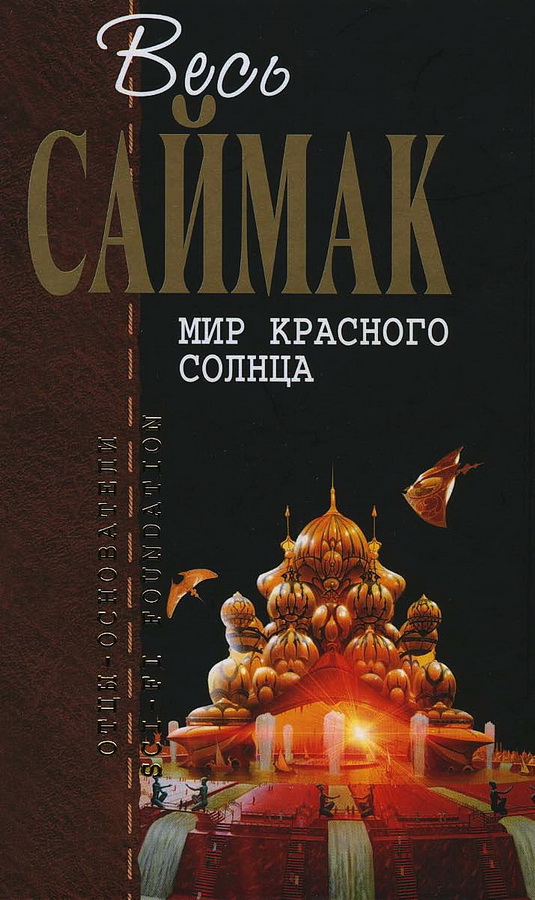Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Автор книги стремится восстановить в памяти события и передать общественно-культурную атмосферу России конца XX – начала XXI в. В издание включены статьи и интервью, близкие по тематике и хронологическому охвату содержанию дневника. В заключение дневниковых записей подводятся краткие аналитические итоги, характеризующие картину сегодняшнего дня.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Рената Александровна Гальцева»: