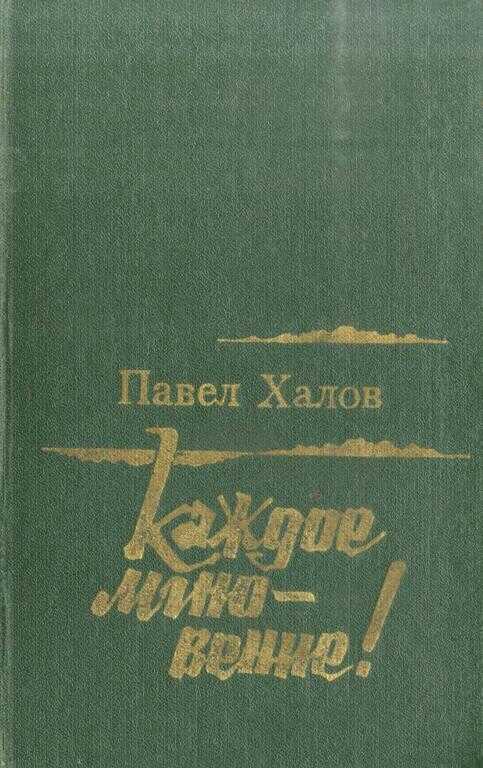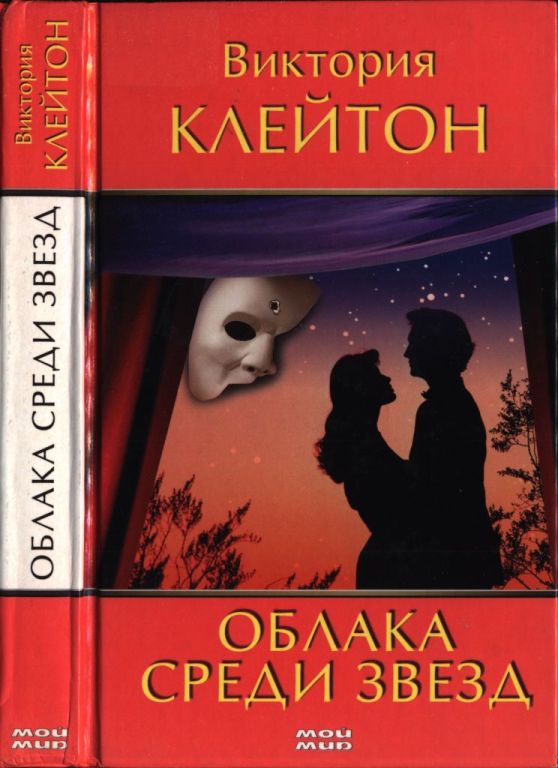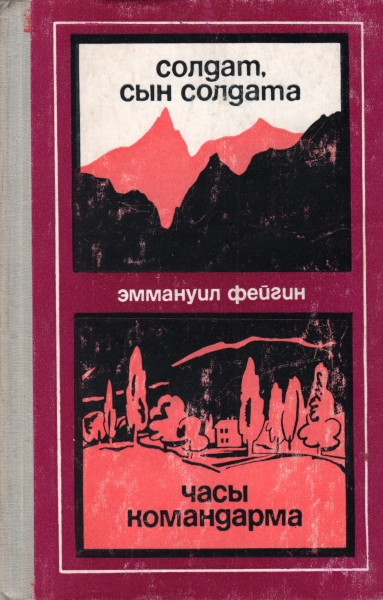Шрифт:
Закладка:
— В окошко стряхни, не вылазь.
Потом, когда Коршак затих на сиденье, спросил:
— Ноги промочил?
— Немного есть.
— Разувайся, я сейчас включу отопитель, пристрой ноги под горячий воздух — что там у тебя — портянки, носки?.. Пусть сохнут.
— Носки… — сказал Коршак.
— Значит, носки. За спинкой сиденья у тебя есть резиновые сапоги, и портянки есть. Достань.
Коршак повернулся отодвинуть спинку.
— Ты что — не знаешь? Приподыми ее вверх, так. Теперь словно патефон открываешь. Вот. Нашел?
— Нашел.
— Они на любую лапу. Сорок-последний растянутый. Портянки там. В сапоге ищи. Там портянки?
— Да, есть. Шерстяные, кажется.
— На том стоим — чистая английская шерсть.
Из отопителя на ноги потек горячий воздух, под ступнями вибрировала теплая тонкая сталь полика кабины. Неизъяснимое наслаждение, радость ощущения покоя и тепла медленно заполняли все существо Коршака. Не хотелось думать о том, что скоро снова предстоит вылезать в снег. Время от времени, несмотря на то, что все три моста грузовика были включены, колеса пробуксовывали чуть-чуть, может быть, на пол-оборота, видимо, под снегом оказывался зыбун, а не галька, машину трясло, она зарывалась чуть не до ступиц, двигатель взвывал, а Митюша нервно шевелил пальцами на руле…
— Чистая английская шерсть, — неожиданно произнес он. Только что ЗИЛ трясло несколько секунд и корму его дважды повело в сторону. — Бывшая батина гимнастерка. Он ведь здесь служил. Всю войну. Он, как Степка, всю жизнь свою тут провел. И потонул тут. Прямо где-то тут — в шторм попали всей бригадой. На кунгасе шли за «жучком». Буксир оборвало. Да если ты на самом деле рыбак — должен знать: в газетах о том писали. И в центральной печати. «Жучок» унесло в океан — восемьдесят суток они там лед обкалывали, сапоги свои ели и пили морскую воду, а пришли сами — выбросились в Очёнской губе на камни. До-олжен знать. Катер назывался «Дербент». Он и теперь еще ходит. И старшой на нем — все тот же, Костя. Костя Денежкин. А рыбачки наши — тю-тю, Один кунгас прибило к Сомовскому. Целый кунгас — ты его видел, а плавать на нем никто не хочет…
Митюша помолчал. И с усмешкой добавил:
— Хотя о кунгасе не писали — о Денежкине, когда он сам вернулся, писали. А о кунгасе нет. Я и фамилию «писателя» того запомнил — Альберт Ружейный. Костя по домам ходил, собирал все газеты эти со статьей, потом пьяный напился и жег их на площади перед заводоуправлением. По одной. Да разве все их сожжешь? Их по стране миллион, наверное, было. Письма Костя аж из Кушки получал поначалу. Какой он мужественный, как сумел всех людей на катере сохранить. Тогда такой же снег пер. Только с ветром. Здесь он у нас «гиляк» называется, ветер такой.
А на кунгасе пять душ было. Я — что! Я понимаю — в столичной газете о таком не напечатают. Те, кто печатает их — газеты эти, они ж ни батю нашего, ни рыбачков иже с ним в глаза не видели. А Костя живой — фотография — улыбается. Может, так и надо? Может, я это тебе излагаю в подобном свете оттого, что на, кунгасе наш батя оказался. И коли кто иной — я бы не усомнился?
— Да нет, Митюша, прав ты, и Денежкин прав — страшно подумать, что пережили они там в кунгасе.
— Я тоже считаю — прав я.
Митюша говорил. Около двух часов он уже сидел за рулем, не отрывая глаз сначала от мерно покачивающейся спины Коршака, сейчас вот от спины своего брата. Расстояние, которое пульсировало между силуэтом черной пробки на радиаторе «фантомаса» и покачивающейся спиной идущего впереди человека, его тускло поблескивающих сапог — метров семь. При таких оборотах попались под колеса твердое — секунда, другая — и не успеешь не то что остановить многотонную махину — подумать усталым, потерявшим бдительность мозгом не успеешь, что нужно тормозить. И он говорил, чтобы не дать себе задремать. Бывает такая дрема — глаза видят и ум еще не спит, а живут они отдельно друг от друга. И он говорил.
— Однажды мы со Степкой подзасели тоже. Слякоть, грязь — весна. И я остудил ходики свои. Сейчас как холодная вода — враз синеют и чешутся. И словно бы мокнут сами по себе. Мать старую батину гимнастерку достала — портянки мне сделала. На, мол, отец на том свете рад будет — в дело пошла, для старшего. И примета у нее есть: если вещь погибшего на себе или при себе иметь — однова пронесет.
— Носки высохнут — я их надену, — отозвался Коршак. Он избегал прямого обращения к Митюше: Степку звал на «ты», Митюшу не мог, а «выкать» не хотел. Митюша итак уже засомневался — «если ты действительно рыбак»…
— Ты как не здешний, — криво усмехнулся Митюша. — Дадено — надевай. Такой порядок тут. Понял? Более не пригодятся. Вот оно, это «однова» мое.
— Спасибо тогда!
— Ну, даешь! Спасибо… — Митюша на секунду оторвал взгляд от идущего впереди брата и посмотрел на Коршака коротко, но внимательно. Потом он снова стал смотреть прямо перед собой. — Чистая шерсть. Я ведь почему говорю? Просто вспомнилось. А поговорить мы любим. Все Бронниковы. Окромя матери — та молчунья у нас. И вспомнилось. И потом, чтоб не закемарить. Чистая шерсть. Тебя Васька от вояк вез? Васька. Он тебя в поселке увидел и говорит: «Я этого мужика вез вместе с Федькой — бригадиром и с летуном с самолета АН-2. Тоже летун, наверное». На том аэродроме в войну американцы садились — с грузами для наших. Отец в роте обслуги был. Так он рассказывал: служба была — каторга и та легче… Вот и ЧШ. Так называли тогда — че-ше — чистая шерсть. Еще и штаны были, их Степка в интернате износил…
«Вот откуда на этом аэродроме, должно быть, стальные полосы, — подумал Коршак. — Здесь принимали «летающие крепости» и Си-сорок семь. Си-сорок семь… Зимой сорок второго шесть таких самолетов шли из Ленинграда над Ладогой, над «дорогой жизни» в сопровождении истребителей. И везли эти СИ-47 — тогда их называли «Дугласы» — детей… И ему показалось, что он в лицо знал отца Митюши и Степки — Бронникова-старшего — Захара — голубые глаза