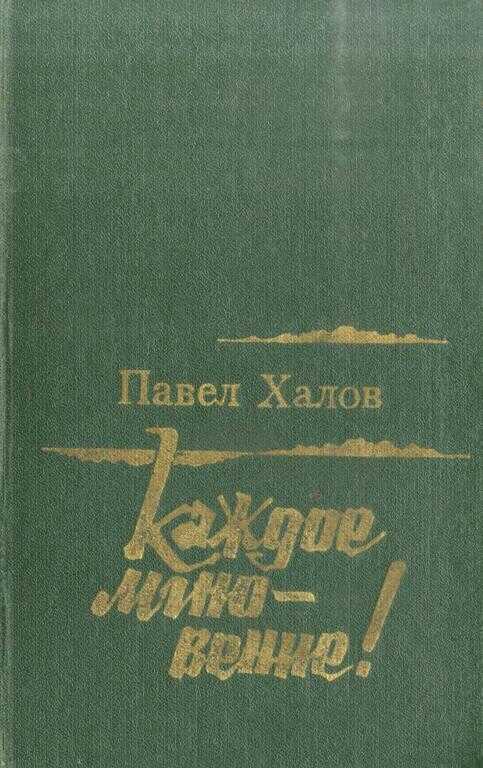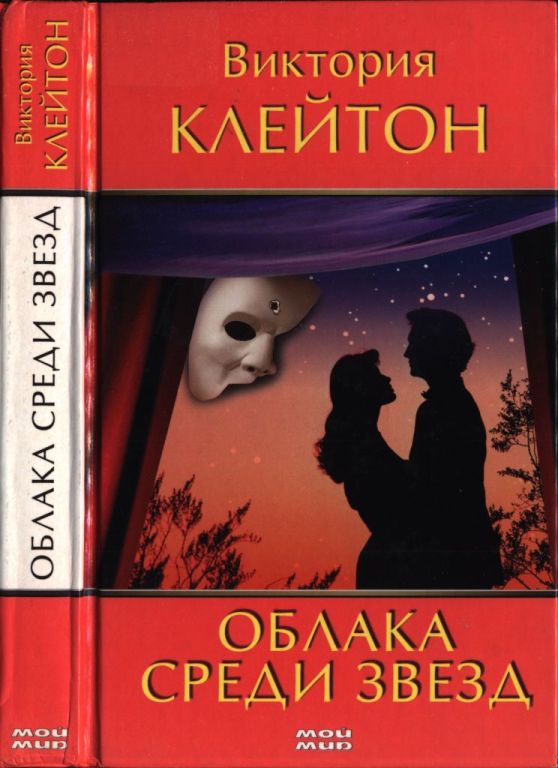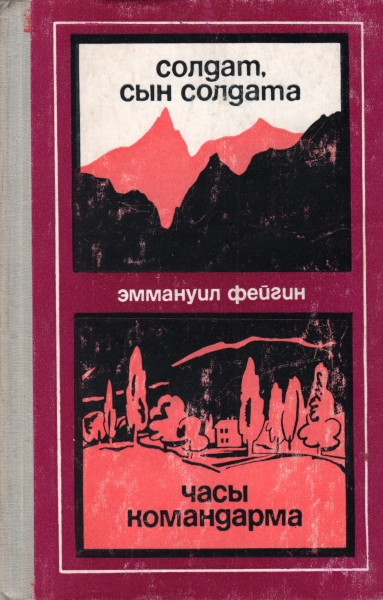Шрифт:
Закладка:
Смешно и грустно было понимать, как развешивает все свои занавесочки этот человек. А впереди предстоит такой трудный путь — целая жизнь, шестьдесят километров, а видимость вот она — вытянул руку — и Коршак, думая такое, на самом деле вытянул руку в сторону и точно засунул ее в вату, такой шел снег. И он еще таял, и вокруг жил звук, который может издавать медленно льющаяся вода, — шорох и журчание. Снег вокруг жил, в нем журчала и шелестела вода, и сам он, касаясь земли, падая на строения, на плечи, на лица и на руки людей, шуршал, двигался. Он шуршал еще и в воздухе. И он принес с собой, как ни странно, и тепло — доски крыльца, черные днища трехтонных кунгасов, капот, стекла и брезентовый тент грузовика протаивали сквозь него.
Бывший замминистра снова понизил голос:
— В институте предстоит смена руководства. Новый ректор. Впервые из местных — за всю историю. Хирург, мамонт. Вы понимаете — начинать новые отношения с того, чтобы оправдываться… А этот остолоп может. Человек, в сущности, уязвим. Наговорит, попробуй потом… Доказывай…
— Да, это сложно, — усмехнулся Коршак.
— Вот видите.
— А почему вы назвали мамонтом будущего ректора?
— Большой, редкий и неуклюжий. Он оперирует все. Таких мало осталось. Но лично мое мнение — пусть бы себе оперировал. Руководить институтом должен человек современный, без чудачеств. Дорого может обойтись. Дмитриев…
— Дмитриев?!
— Дмитриев, — машинально подтвердил блондин. — Профессор Дмитриев. — И спохватился: — Вы знакомы?..
— Нет, — не тотчас отозвался Коршак. — Однофамилец врача в траловом флоте… Но тот не профессор…
И все же этого хватило, чтобы блондин замкнулся и насторожился.
Коршак понял его и подумал с грустью: «Не знал замминистра, где настоящая опасность. Степка — тот даже ценой тюрьмы морду набить может. Жаловаться не станет, а морду набьет — и хорош! А, пожалуй, этот человек согласился бы: «набейте морду, но молчите…»
— Послушайте…
— Николай Иванович Салин, — подсказал свое имя доцент.
— Николай Иванович, мне не ясно одно: ведь все вы здесь почти врачи, медики. Как можно было довести себя до такого состояния? — медленно проговорил Коршак.
— Я тоже могу задавать вопросы! Почему, например, вместо того, чтобы производственную практику проходить в лечебных учреждениях, учиться делать инъекции, ухаживать за страждущими, за ту же стипендию, медики солят рыбу? Студенты-химики валят лес, а автомобилисты роют ямы для силоса? Я это хорошо знаю — они наши соседи. Вы можете мне ответить на это?
— Значит, так, публика. Сейчас мы выходим, — Степка не сказал «выезжаем». — Кино «Назад дороги нет» видели? И у нас назад дороги нет. Только вперед. Останавливаться нельзя, хана! Вам понятно? Я, которые женщины, спрашиваю? Ни по большому, ни по малому — идем насквозь! По нужде или прямо с кузова, или только в колеях от колес. В сторону — ни-ни. Опять же — хана! Жратва — в кузове, на ходу. Я говорю — останавливаться нельзя не потому, что спешим, а на минутку-две можно бы притормозить — останавливаться нельзя ни на секунду — колеса должны вертеться до твердой дороги, а твердая дорога далеко отсюда. Главный у нас — Митюша, он за рулем. Все вопросы — ко мне, без меня — ни-ни. Ясно? Думать обо мне можете что угодно! Как поняли? Прием.
Вопросов не было. И сам Коршак не предполагал, насколько серьезная предстояла дорога. Значит, и на стане останавливаться будет нельзя. И значит, кто-то все время должен идти впереди машины — из кабины Митюша ничего не увидит. Дорогу ему надо показывать. Замминистра не заставишь, пацанов нельзя. Остаются они вдвоем: Степка и он, Коршак. Разделить по тридцать километров на брата по мокрому тяжелому снегу. Без права остановки.
— Ну, кореш, — сказал Степка, протягивая Коршаку стиснутый грязный уже от работы с машиной и с тентом кулак, из которого торчали комельки двух спичек. — Тащи. Короткая — идешь первым.
— Решай сам, — сказал Коршак.
— Нет, тащи. У нас равноправие. Понял?
И Коршак пошел. Гул двигателя словно лег ему на плечи. Зыбкий свет подфарников выбеливал впереди сплошную стену снега. И тень от себя Коршак сначала видел в полный рост перед собой, словно второй человек шагал впереди, смешно повторяя длинными вывернутыми руками его движения, и его же движения повторяли неестественно короткие ноги тени. Но постепенно он приучил себя — не видеть своей собственной тени, сместился чуть влево, к морю — теперь море было слева, — и постепенно начал различать силуэты: сначала это были строения поселка — стучал где-то дизелек, гоня слабенькое электричество по тонким проводам в редкие жилища редких людей; в связи со снегопадом движок сегодня запустили намного раньше положенных 21 ноль-ноль. Огни в окошках виделись смутными желтоватыми шарами. Из-за натужного, но уверенного рева двигателя едва пробился человеческий голос:
— Счастлива-а, ребята… Счастлива-а. — У самой колеи — заснеженная фигура деда Кирилла. Он стоял с непокрытой головой и с голыми по-прежнему руками.
Вот и все — отодвинулся Сомовский. Коршак поймал себя на ощущении того, что ступает в неизведанное. И на том, что ему страшно. Сначала попытался думать о хорошем — о Феликсе и о Дмитриеве. Придумывал себе, что идет домой, там его ждут Мария и Сережка, и у них все хорошо. Потом попытался вспомнить голос Катюхи, но оказалось, что такой голос живет, пока звучит. Вспомнить его нельзя и повторить мысленно нельзя. А потом понял, что и думать нельзя ни о чем, кроме как о самой дороге, о самом процессе ходьбы, о шагах. И он начал считать свои шаги…
На первой тысяче после Сомовского его догнал Степка и пошел рядом.
— Живой?
— Живой. Ты чего? Твое впереди.
— Держи постоянные обороты, режим держи. Мощность потеряешь — не наберем. Иди в машину…
Но остановиться было почему-то страшно — ноги не останавливались. И Коршак некоторое время все еще шел рядом с Бронниковым, не видя, как тот усмехается — не впервые Степан идет перед ревущим напряженно на одной ноте грузовиком своего брата.
— Вот ведь — никак не придумает человечество две системы: свет для машины да лючины на сейнерах, чтобы их шторм не срывал. Ходи вот перед евонной мордой. Задавит еще, — Степка говорил молодым, легким голосом.
Коршак не ответил, и смысл сказанного едва дошел до его сознания. Ноги несли его по мокрому глубокому снегу, и собственная голова казалась ему легкой и маленькой. И все тело, кроме ног, ощущалось легким, словно опустошенным.
Наконец он замедлил шаги, отстал от Степана, и из снежной мглы выполз дышащий горячим маслом, содрогающийся