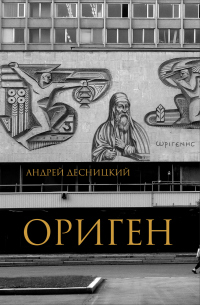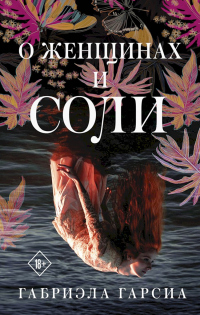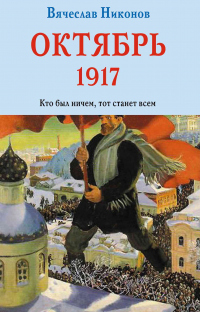Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Третья повесть — это перестроечная Москва и ее окрестности. А еще Александрия и Кесария тех дальних времен, когда церковь и империя с осторожностью присматривались друг к другу и не знали, что скоро станут друзьями. Почти всё изменилось в этом мире, и почти всё осталось на своих местах...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Десницкий»: