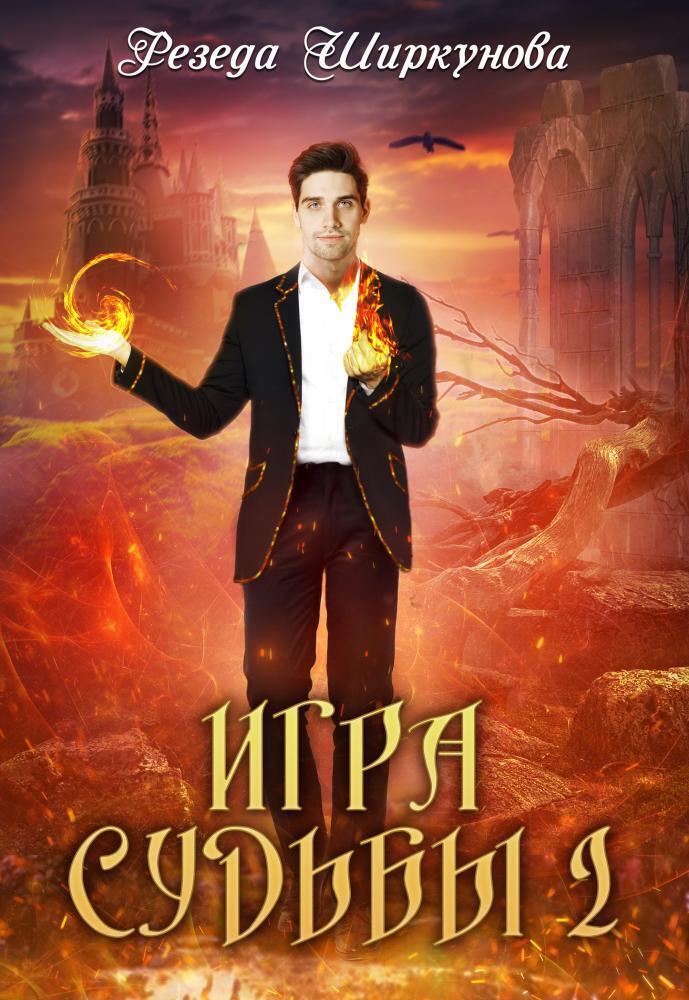Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Серафима Суок, возлюбленная писателя Юрия Олеши, владела необыкновенным артефактом – бусами, которые помогли ей получить все, что она хотела, исполнить все ее желания…Зое Сапожниковой в наследство от умершей матери достались старинные бусы. В школе Зою-Зосю постоянно обижают и насмехаются над ней, но шутки заканчиваются, когда все враги Зои умирают, а возле их тел находят аметисты…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алина Егорова»: