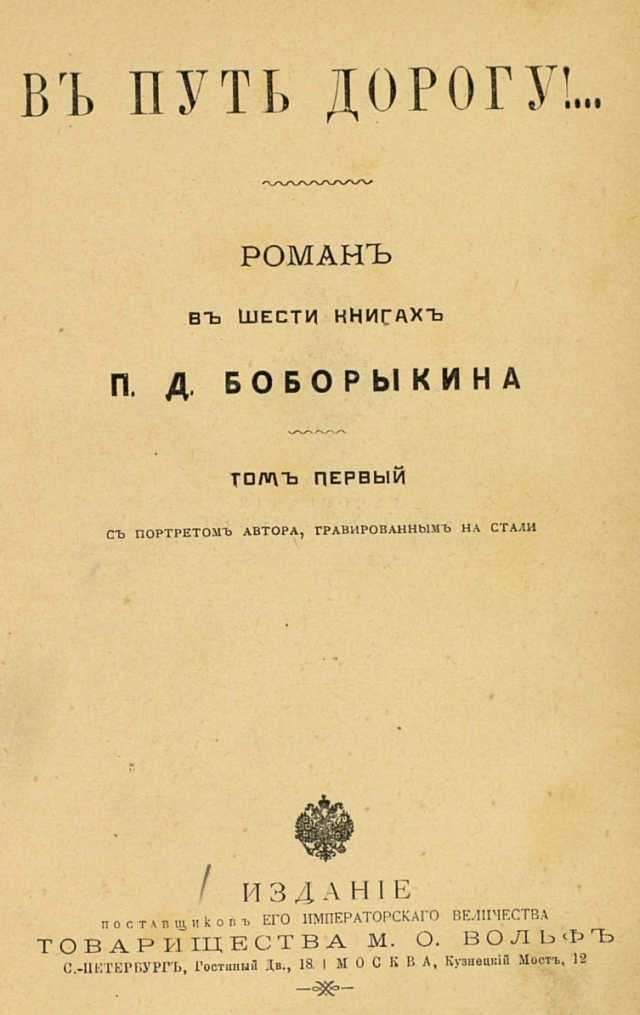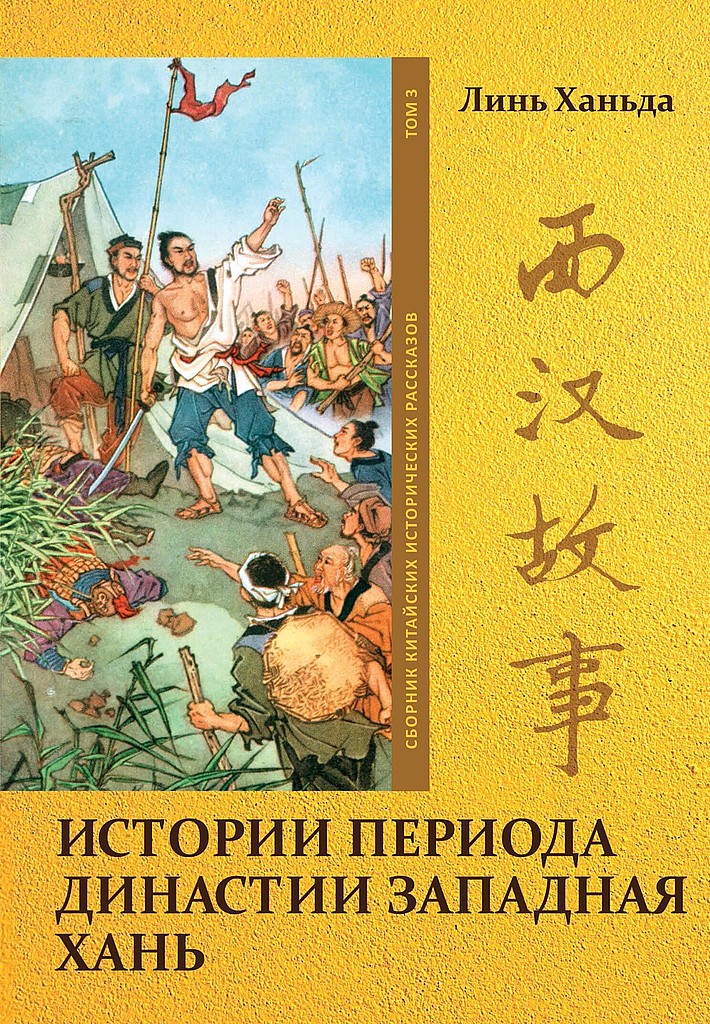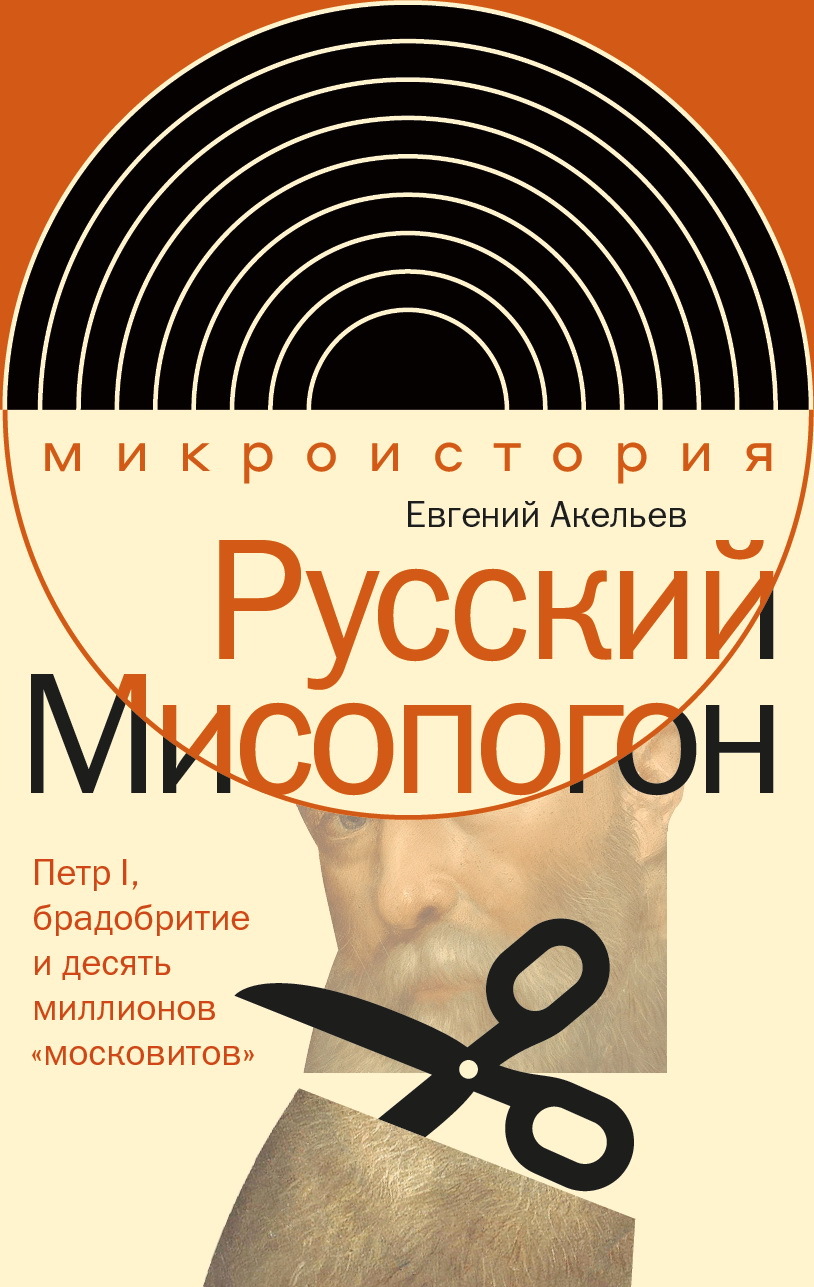Шрифт:
Закладка:
Въ послѣднюю мою поѣздку замѣчалъ я все разрастающіеся признаки литературно-этической анархіи. Началось это еще лѣтъ двадцать тому назадъ, когда стали нарождаться и скоро погибать небольшіе литературно-художественные журнальцы. Съ редакціей одного изъ нихъ я имѣлъ случай познакомиться. Въ ней главную роль игралъ нѣкий Фенеонъ— впослѣдствіи обвиненный уже прямо въ участіи въ какихъ-то подпольныхъ агитаціяхъ парижскихъ анархистовъ. Но онъ былъ оправданъ и тогда я его нашелъ руководителемъ журнала, который представлялъ собою уже послѣднее слово литературно-художественной анархіи. Журналъ этотъ назывался «Revue blanche». Въ немъ дѣйствовалъ также и молодой романистъ, помѣщающій свои болѣе крупныя вещи и въ фельетонахъ ежедневныхъ газетъ. Это — Поль Аданъ, который силится примѣнить принципы символизма къ роману, и въ послѣднюю мою поѣздку я имѣлъ случай бесѣдовать съ нимъ на эту тему. Пишетъ онъ, въ сущности, вещи на тенденціозныя темы, a no пріемамъ держится реальной правды; но по его толкованію, выходитъ, что каждое крупное лицо романа или группа лицъ должны собою что-то обозначать «символически».
Въ журнальцѣ «Revue blanche» вы находили образчики всевозможныхъ новшествъ, всякія разновидности эстетическаго сенсуализма и декадентства. Дѣло дошло до того, что тотъ самый романистъ Поль Аданъ весною 1895 г. напечатал формальную защиту нравовъ англійскаго писателя Оскара Уайльда, по поводу тогдашняго скандальнаго процесса, кончившагося приговоромъ Уайльда къ двухлѣтнему тюремному заключению, съ принудительными работами. И это извращеніе инстинктовъ и нравственныхъ устоевъ перемѣшивается какъто съ порываниями въ наземную область съ одной стороны, а съ другой доходитъ уже прямо до «садизма».
При такихъ успѣхахъ умственнохудожественной анархіи нечего удивляться, что болѣе трезвая литературная критика хотя и продолжаетъ развиваться въ Парижѣ, но дѣйствуетъ всего менѣе на молодыхъ начинающихъ писателей, бросающихся въ литературную свалку. Теперь нѣтъ ни СенъБёва, ни Тэна, но никакъ нельзя сказать, чтобы критика находилась въ полномъ упадкѣ. Напротивъ, въ ней мы видимъ движеніе впередъ, выработку болѣе ссрьезныхъ научныхъ методовъ, исканіе законовъ развитія. Я уже говорилъ объ одномъ изъ критическихъ дѣятелей послѣднихъ годовъ — лекторѣ Сорбонны, Эдилѣ Фаге. Онъ въ то же время принадлежитъ и текущей литературѣ, его цѣнятъ въ журналахъ и газетахъ; онъ состоитъ и театральнымъ рецензентомъ, и появляется передъ публикой, какъ conférencier. Раньше его добился, и очень скоро, успѣха Жюль Леметръ, еще не такъ давно безвѣстный учитель лицея въ провинціи. Одними критическими статьями и фельетонами онъ въ два, въ три года сдѣлался популярнымъ, и отъ критики перешелъ къ работѣ писателяхудожника — поставилъ нѣсколько пьесъ, имѣющихъ болѣе литературныхъ достоинствъ, чѣмъ большинство того, что ставится па театрахъ Парижа.
Я познакомился съ нимъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда онъ уже занялъ видное место въ критической прессѣ Парижа и нашелъ въ немъ человѣка, по своему умственному складу, приемам и манерѣ говорить, очень похожаго на то, чтѣ и какъ онъ пишетъ. Этотъ приятный скептикъ и цѣнитель способенъ смаковать рѣшительно все то, что можетъ доставлять ему чистоидейное или эстетическое удовольствіе. Когдато я въ одномъ газетномъ этюдѣ провелъ параллель между Леметромъ и другимь, теперь тоже чрезвычайно виднымъ парижским критикомъ Брюнетьеромъ. Съ тѣхъ поръ оба они успѣли очутиться въ академикахъ. Тогда, въ моей параллели, я становился на сторону такихъ критиковъ, какъ Леметръ, т. е. болѣе терпимых, безъ педантства, а Брюнетьера выставлялъ какъ противоположность такому типу рецензента и не одобрялъ его малой терпимости и учительскихъ замашекъ. Но съ тѣхъ поръ Брюнетьеръ, сдѣлавшійся редакторомъ «Revue dos doux mondes» и приглашённый Высшей Нормальной Школой читать лекции по истории французской литературы, предпринялъ большое изслѣдованіе о происхожденіи и развитіи самыхъ главныхъ родовъ творческой литературы: лирики, романа, драмы — началъ съ картины развитія французской критики; и въ основу своихъ работъ положилъ идею эволюціи, какъ бы примѣняя къ области творчества принципы дарвинизма. За это можно было ему простить многіе пороки его критической организаціи. Какъ бы Брюнетьеръ ни былъ одностороненъ, онъ все-таки же держится за пріемы научнаго изслѣдованія, ищетъ въ развитіи каждой формы творчества законовъ роста и движенія. А Жюль Леметръ, въ эти самые годы, по моему, размѣнялся на мѣдныя деньги диллетантства. Его замѣтки и рецензіи не дадутъ вамъ ничего ровно, кромѣ прелестно написанныхъ варіацій на тему чисто личныхъ вкусовъ и настроеній самого критика. Если хоть сколько-нибудь серьезно относиться къ задачѣ художественно-литературной критики— вы не можете сочувствовать подобному безпринципiю, не можете не жалѣть, что даровитый, начитанный и чуткій человѣкъ — только тѣшитъ себя и публику, но нисколько не двигаетъ впередъ то дѣло, которому служитъ.
Разумѣется, и но внѣшнему виду, и но тону разговора, Жюль Леметр и Фердинандъ Брюнетьеръ — крайние полюсы критического діаметра. Жюль Леметръ, когда я съ нимъ познакомился, былъ не старый еще на видъ мужчина, небольшого роста, мало похожий на типического парижскаго писателя. Въ немъ осталось что-то немножко провинціальное, по манерѣ одѣваться, прическѣ, манерамъ, оттѣнку вѣжливости. Въ его усмѣшкахъ, маленьких фразахъ, уклончивомъ тонѣ вы сейчасъ чувствовали, что это — натура, которая будет всегда отъ васъ ускользать. Глаза тоже улыбаются немножко съ хитриной, какъ-будто желая сказать: «стоитъ ли во что-нибудь класть свои убеждения, доискиваться до коренныхъ причинъ и всемирныхъ законовъ? Лучше воздѣлывать свое тонкое пониманіе и брать отъ литературы и вообще отъ жизни все то, что она можетъ дать пріятнаго или новаго». — Но этотъ скептикъ и диллетантъ иногда выступалъ съ протестами въ видѣ довольно таки безпощадныхъ разборовъ того, что ему казалось вреднымъ и ненужнымъ. Онъ одинъ изъ первыхъ началъ вести походъ противъ увлеченія русскими писателями — Толстымъ и Достоевскимъ. И ему нѣкоторые ставятъ въ положительную заслугу то, что онъ имѣлъ смѣлость не раздѣлять общаго восхваленія драмы Толстого «Власть тьмы».
И Брюнетьера я нашелъ весьма похожимъ на его критическую физіономію, особенно за тотъ періодъ, когда онъ громилъ и обличалъ Эмиля Зола и всю натуралистическую школу. Я познакомился съ нимъ около 20 лѣтъ назадъ, заинтересованный его лекціями о происхожденіи литературныхъ родовъ. Онъ тогда уже завѣдывалъ «Revue des deux mondes» какъ главный редакторъ и пробирался въ академію. Смахивалъ онъ на суховатаго, увѣреннаго въ себѣ и не любящаго шутить чиновника или педагога, также небольшого роста, съ просѣдью, съ рѣзковатыми чертами лица, быстрымъ и нельзя сказать, чтобы мягкимъ взглядомъ изъ-за стеколъ черепаховаго pincenez. Говорилъ онъ бойко, увѣренно, чрезвычайно ясно и отчетливо, гораздо проще, чѣмъ пишетъ. Также долженъ онъ былъ говорить и съ публикой на своихъ публичныхъ лекціяхъ, которыми въ тѣ годы, очень выдвинулся.
До большой парижской публики критическіе идеи и пріемы доходятъ всего удобнѣе въ формѣ публичныхъ лекцій— «conférences». По этой части Парижъ сталъ еще бойчѣе, чѣмъ это было тридцать пять лѣтъ