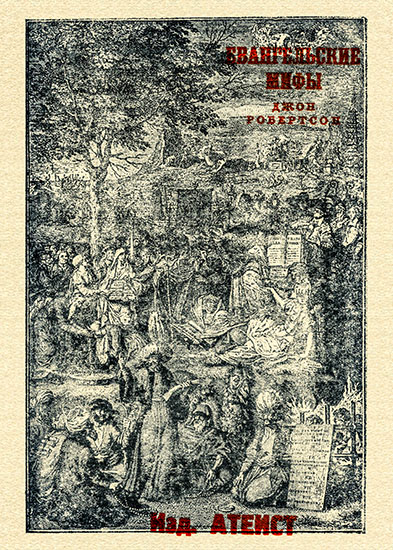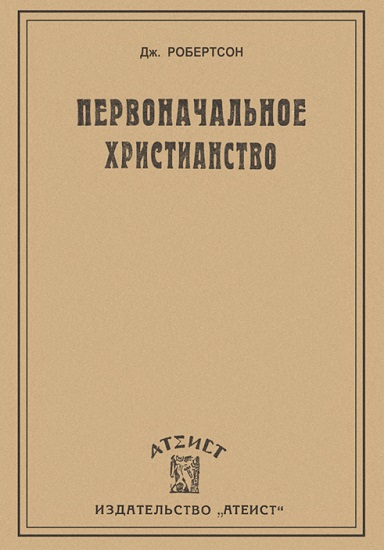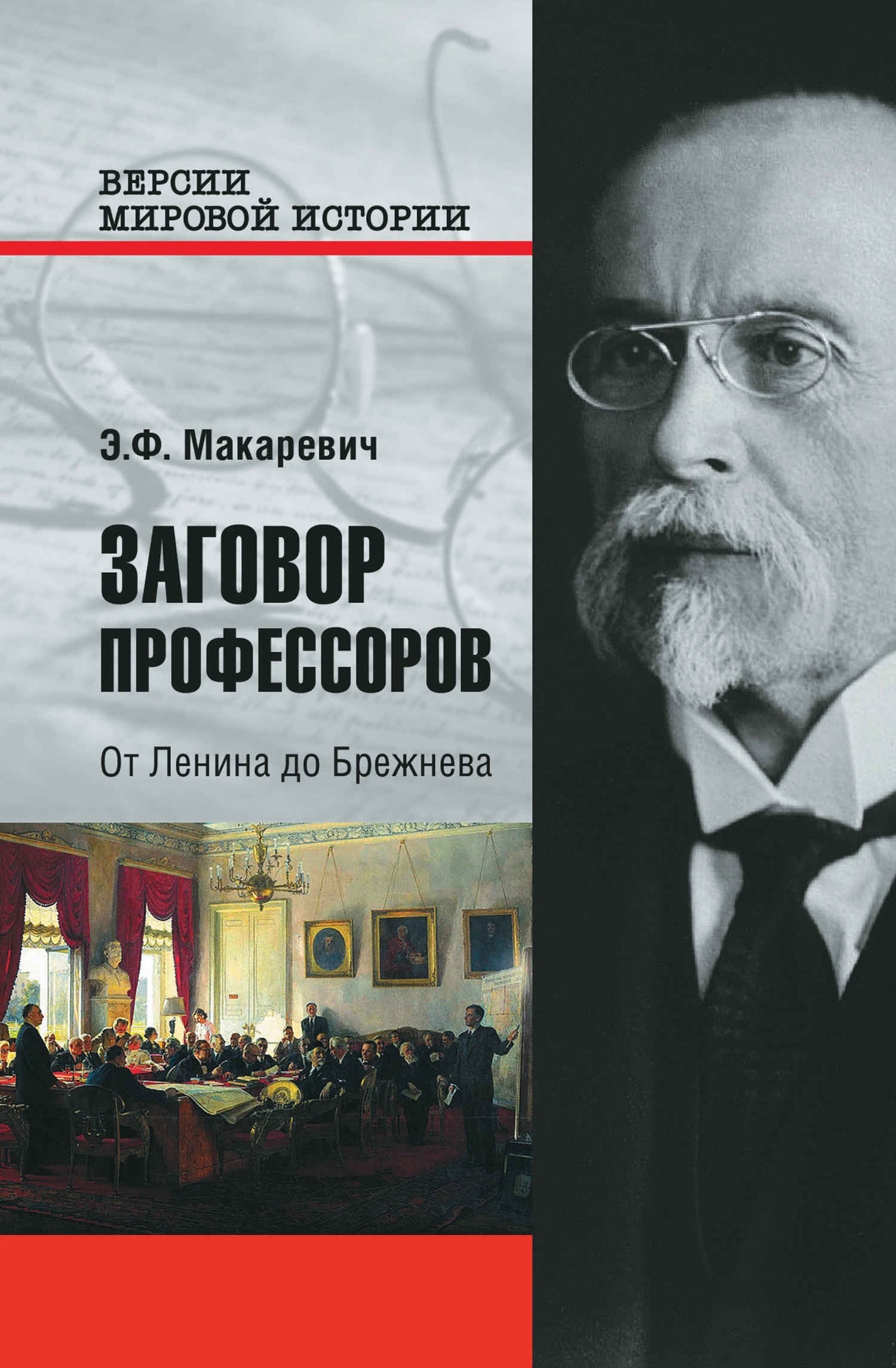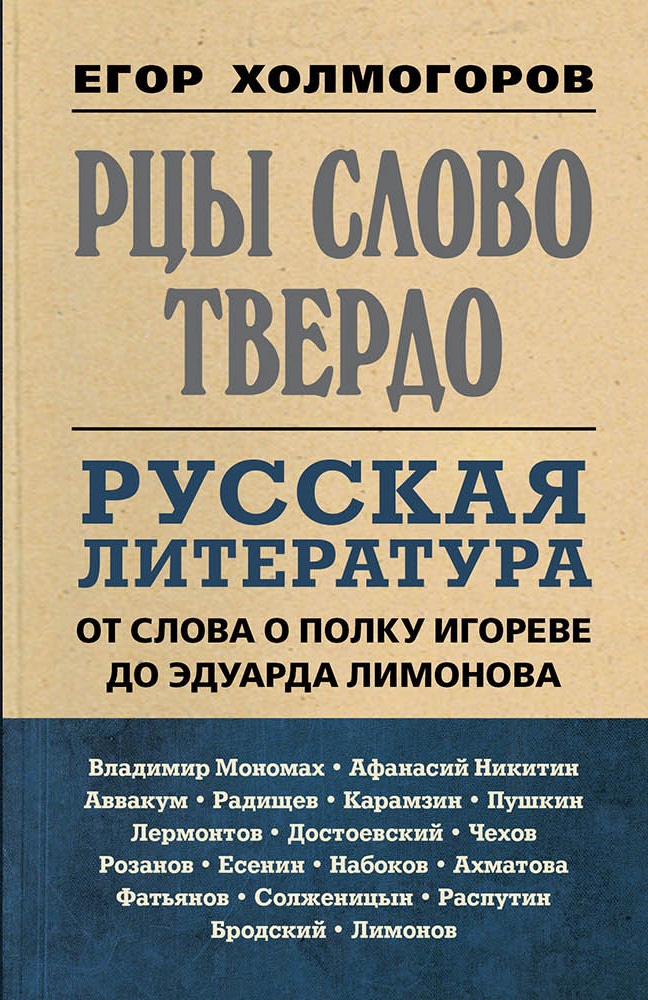Шрифт:
Закладка:
Шотл. ученый-атеист Д. М. Робертсон — один из крупнейших представителей мифологической школы в историографии христианства. В этом труде «Евангельские мифы» Робертсон не только блестяще применил основной метод сравнительной мифологии, не только вскрыл внутренние нелепости историческую несостоятельность евангельских рассказов, и не только привел массу аналогий из других древних и современных христианству культов, он исследовал самое происхождение христианских мифов; он звено за звеном развернул ту длинную цепь многовекового мифотворчества, которая привела к евангелиям. Московская группа активных атеистов благодарит за выпуск этой книги: заведующего типографией Вхутемас тов. Ефимова; наборщиков т.т. Бендера, Горюнова, Игнатова, Молчанова, Нюренберга, Филатова; печатников т.т. Голованова, Лукина, Мельникова, Рыбкина и брошюровщиков т.т. Алпатова, Макрушину, Сизова и Сорокину.