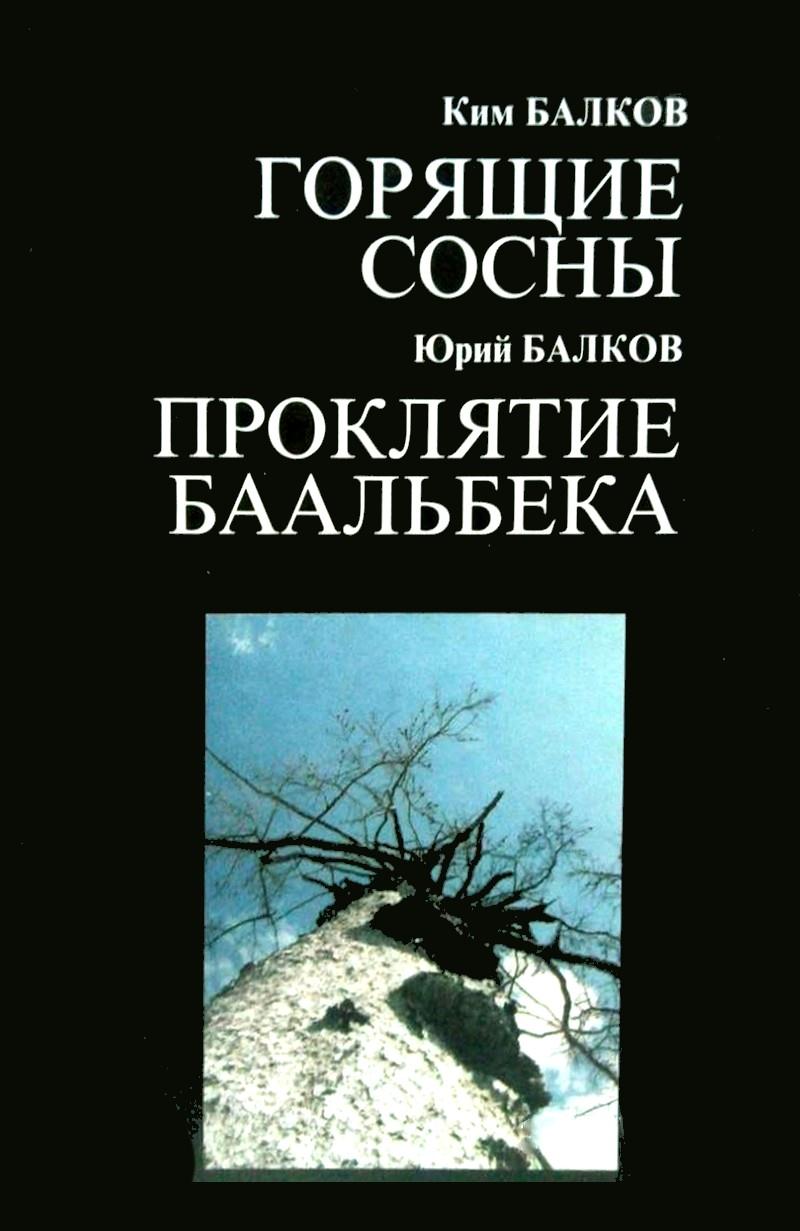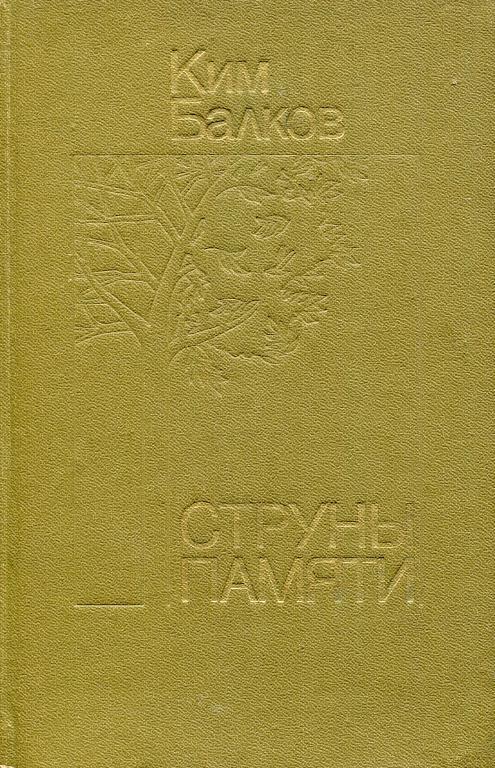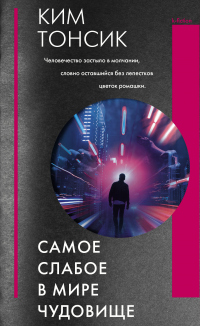Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новую книгу Кима Балкова вошли повесть «Росстань» и два цикла рассказов. В «Росстани» писатель обращается к главной своей теме — Человек и Природа, ратует за бережное отношение ко всему живому на земле. Рассказы из цикла «Поезда идут из детства», объединенные одним героем, посвящены проблеме формирования личности подростка на примере поколения отцов, вернувшихся с войны. В раздел «Струны памяти» включены рассказы о современности, о преемственности поколений.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ким Николаевич Балков»: