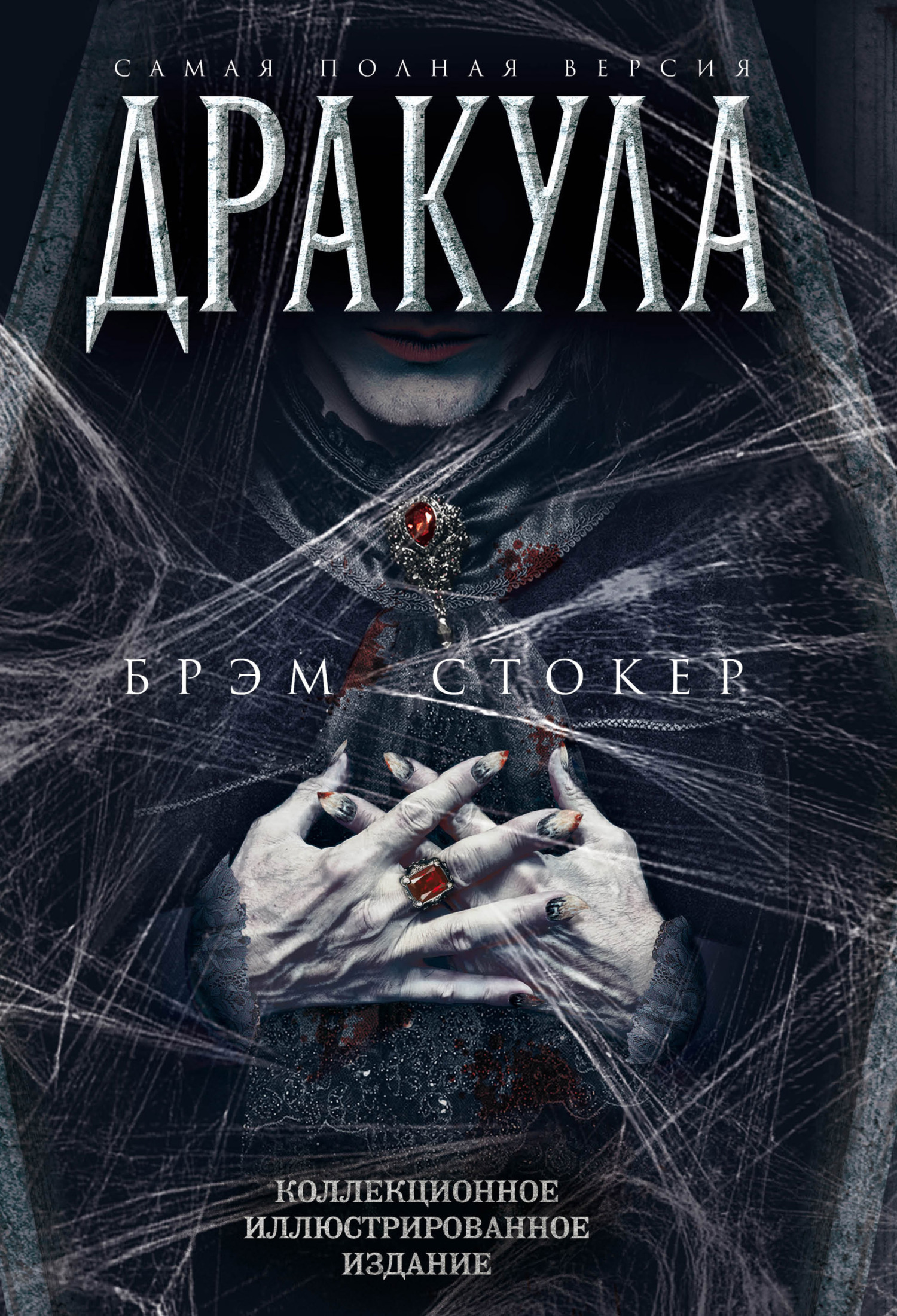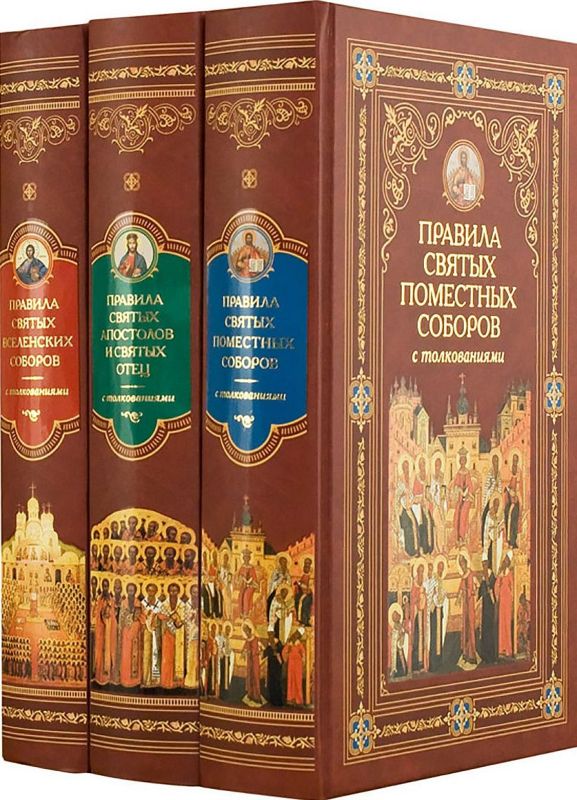Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Частным сыщикам Андрею Сыскарю и Ирине Москвитиной из нашего времени, а также охотнику за нечистью Симаю Удаче из 1722 года и репортеру газеты «Вечерние известия» из Российской империи 1910 года предстоит разгадать тайну перехода в другое измерение и вступить в схватку со Злом, рожденным еще во времена легендарной Атлантиды. И всё это в удивительном городе, которого нет ни на одной карте мира.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Анатольевич Евтушенко»:
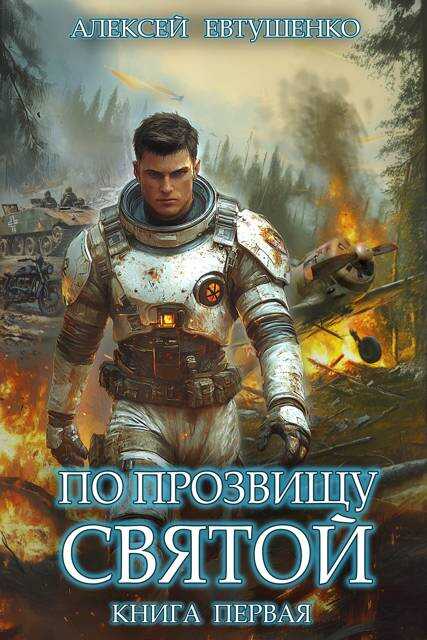
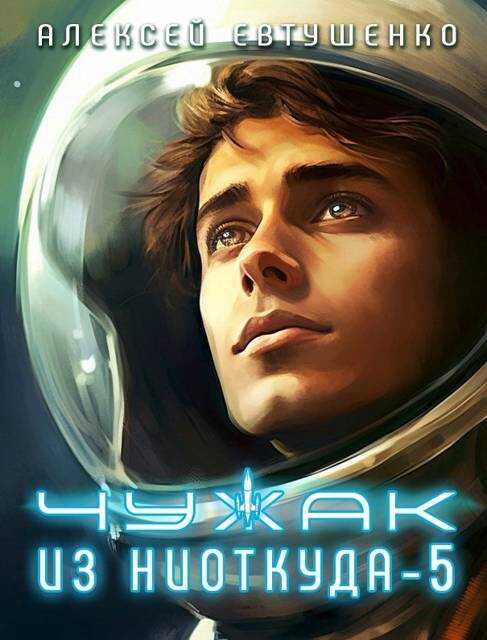

![Вечная кровь [СИ c издательской обложкой] - Алексей Анатольевич Евтушенко](/uploads/posts/books/18702/18702.jpg)