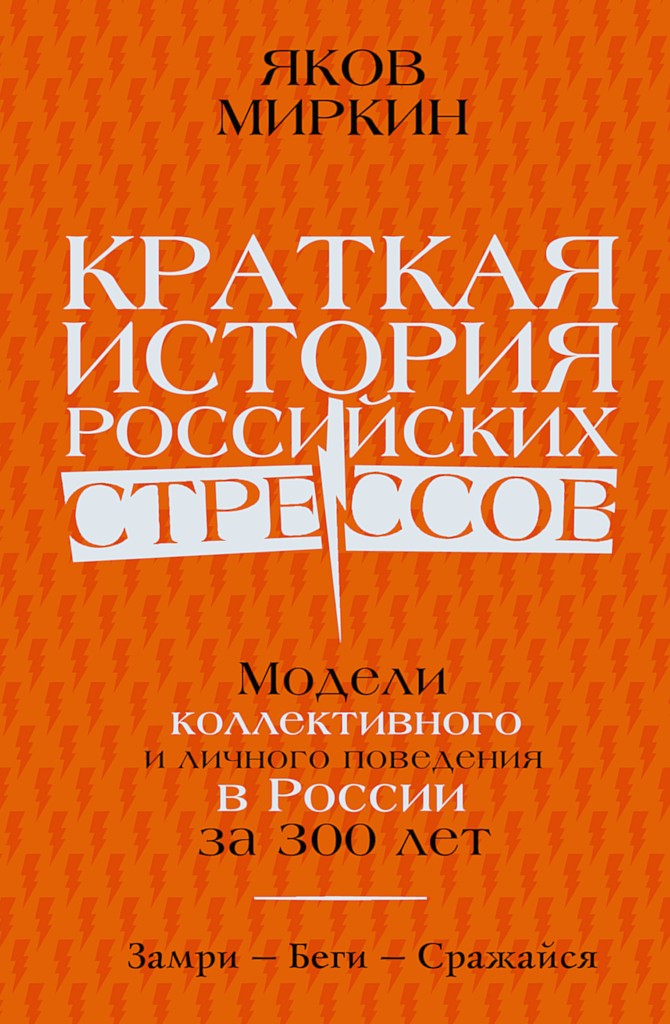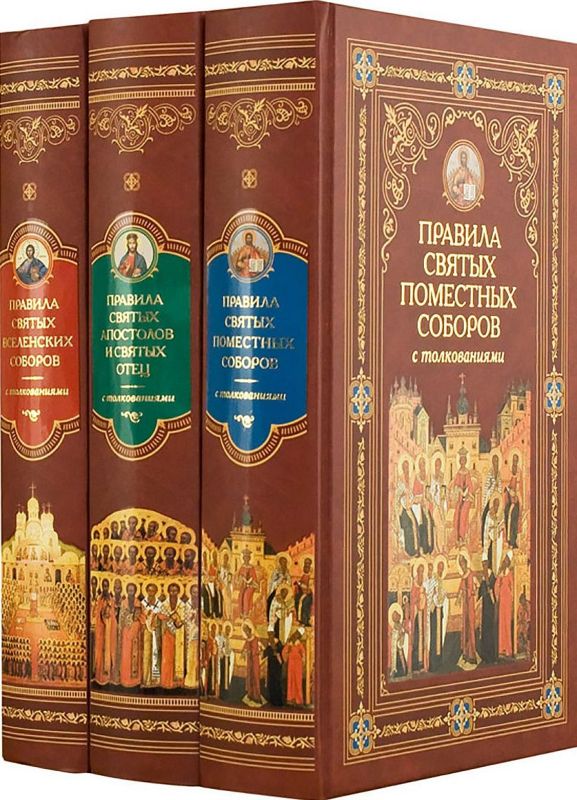Шрифт:
Закладка:
Эта книга является дополненным и переработанным изданием бестселлера Якова Миркина «Правила неосторожного обращения с государством». С момента появления первого издания ситуация в мире изменилась, но человек по-прежнему кажется маленькой слабой пешкой на шахматной доске великих держав.Как строить отношения с государством, не превратившись в один из винтиков системы и сохранив себя? История повторяется, и человеческие судьбы в ней – тоже. Ошибки людей, живших в переломные эпохи прошлого, могут стать уроком и предостережением для нас. Если мы усвоим этот урок, то всегда будем иметь стратегическую инициативу, просчитывать ход событий. В книге приведены документы, письма, дневники, мемуары исторических личностей. Все это подчинено одному – как не попасть под каток истории, как быть на подъеме – всегда, вместе с семьей. Эта книга —для думающих, проницательных, для тех, кто готов занять сильную позицию в своей игре с обществом и государством.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.