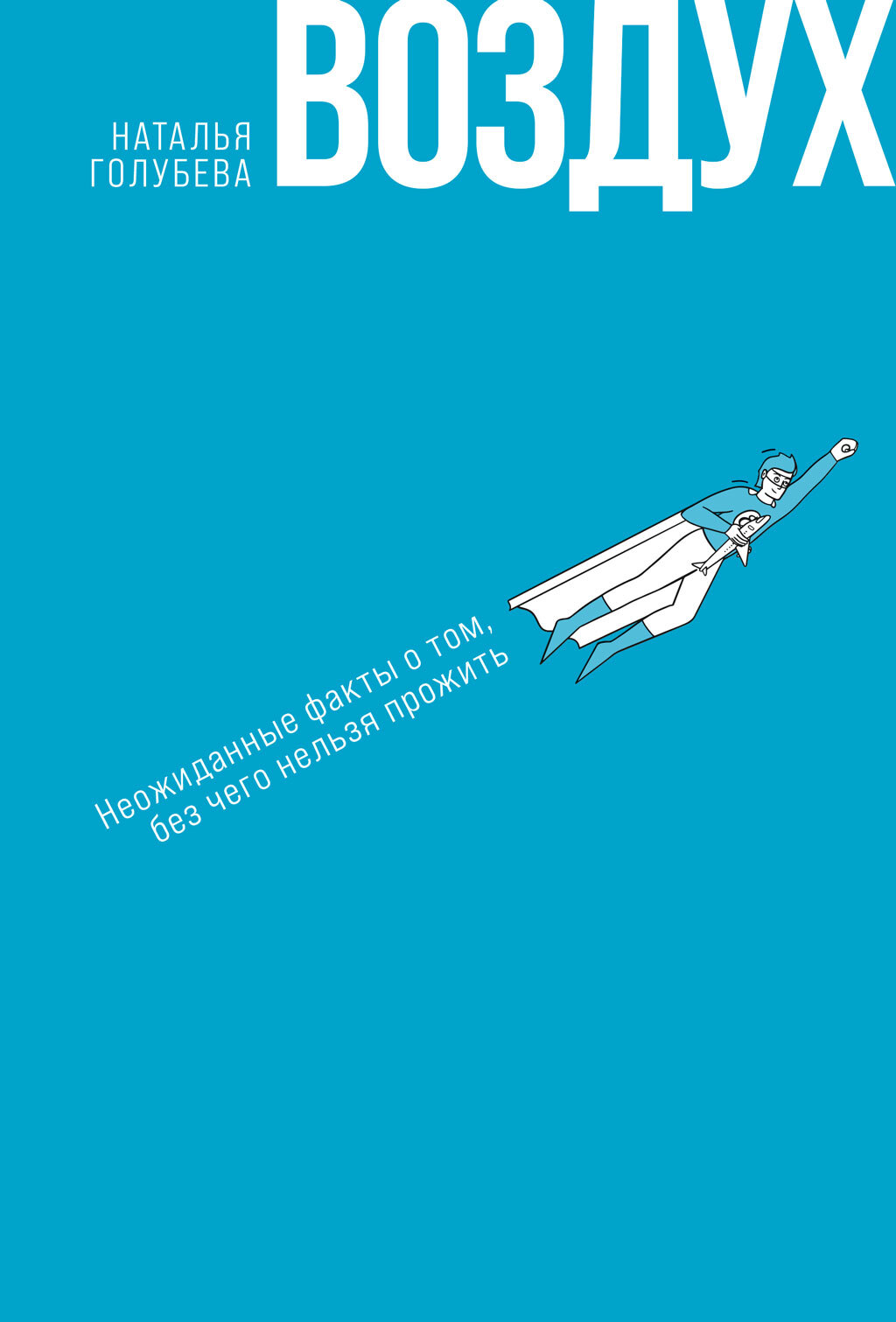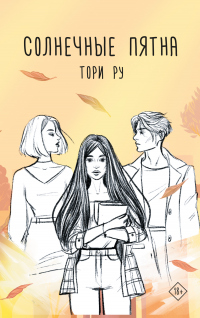Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Плюх!» – грохнула винтовка, стукнув меня в плечо. В ту же секунду там, куда я стрелял, раздалось истошное: «А-а-а-а-а!» Я резко зажмурился. «Господи, неужели попал?» – промелькнуло в воспалённом мозгу. Но тут же, помня о поведении Петра, спрятался за краем балки и сдвинулся в сторону. Вылез на пяток метров подальше и увидел то, чего никогда не забуду: по степи, истошно крича, катался тот самый немец, в которого я выстрелил и попал. Автомат его валялся рядом, а солдат держался обеими руками за грудь. Я не видел, есть ли там кровь, но воображение после просмотра блокбастеров и многих часов, проведённых за компьютерными играми, у меня ой какое богатое! Потому представил алый фонтан, большую бурую лужу...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дарья Десса»: