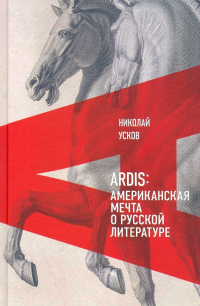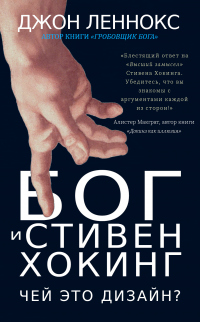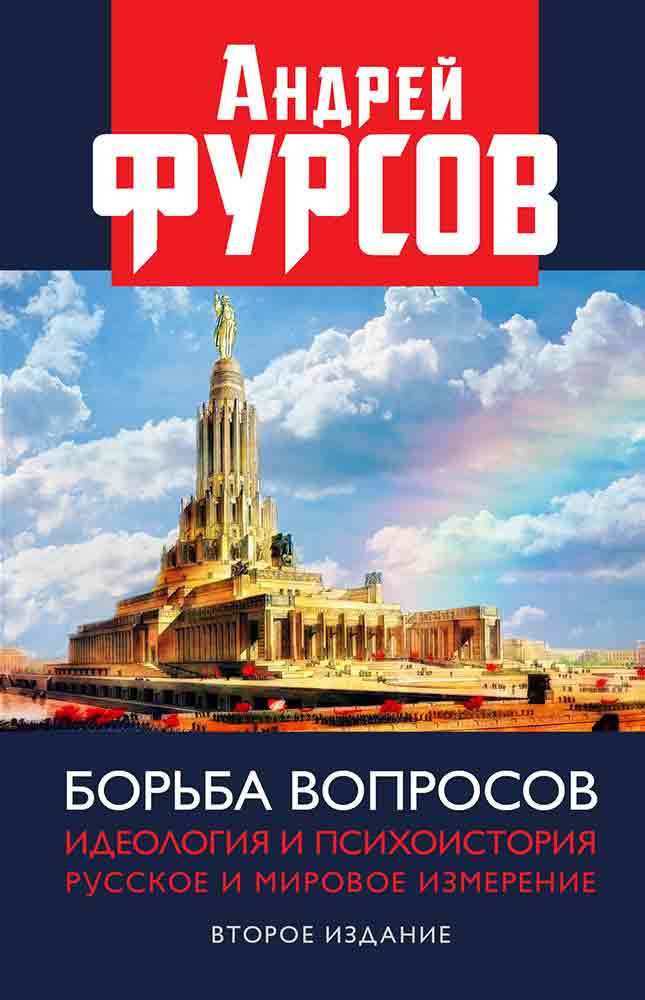Шрифт:
Закладка:
Люди не всегда ощущали такую тревожность. Не всегда тратили столько времени, обдумывая сценарии катастроф. Что это за голос звучит в голове, от чего он предостерегает? Так ли страшны одиночество, бег времени, нехватка денег, душевные болезни, неудачи в личных отношениях? Роланд Паульсен, привлекая большое количество материала из истории, философии, психологии и самой жизни, рассказывает, когда же человечество стало таким тревожным и почему. Он предлагает разобраться: что стоит за страхами современного человека и как с ними справляться. Его книга будет интересна и полезна всем, кто тревожится сам и у кого тревожатся близкие.Роланд Паульсен (1981 г. р.) ‒ шведский социолог, доцент Упсальского университета. Лауреат престижных премий. Выступал как эксперт на BBC Radio, в изданиях Le Monde, El País, Wall Street Journal, The Economist и др. Автор пяти книг.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.