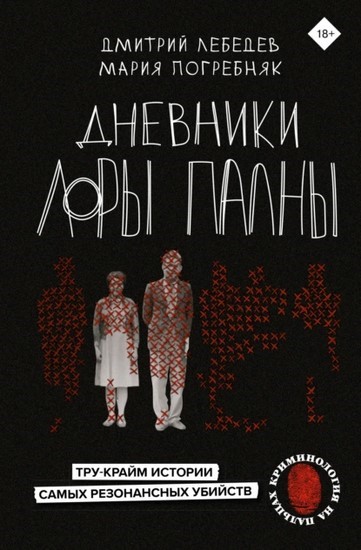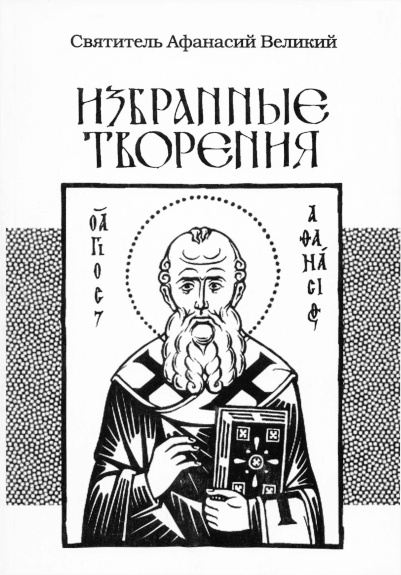Шрифт:
Закладка:
МГНОВЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР SUNDAY TIMES.От специалиста по криминальной психологии и профайлингу.Он – монстр, которого ненавидят все. Кроме нее…Когда Софи было восемь, в ее жизни появился обаятельнейший Мэтти Мелгрен – новый мужчина ее матери Амелии-Роуз. Он заменил девочке отца. Софи с мамой наслаждались его любовью и добротой несколько лет, даже не подозревая, что Мэтти и терроризирующий Северный Лондон серийный убийца по прозвищу Тень – один и тот же человек. Не насторожило их даже то, что все жертвы маньяка были поразительно похожи на Амелию-Роуз…Мэтти поймали и осудили на пожизненное, но у многих остались сомнения в его виновности. Он стал настоящей знаменитостью. А вот жизнь его несостоявшейся семьи оказалась полностью разрушена. Теперь, двадцать лет спустя, Софи получает письмо из тюрьмы Бэттлмаут, в котором сообщается, что Мэтти умирает от рака и хочет встретиться. Может быть, Софи наконец-то получит ответы на вопросы, так мучившие ее всю жизнь. Вот только освободит ли ее эта правда – или станет последним, смертельным ударом?..«Абсолютно поглощающая закрученная история. Явный претендент на звание "Лучший триллер-2022"». – Джон Маррс«Дико захватывающе, изощренно, пугающе». – Крис Уитакер«Невозможно отложить». – Алекс Михаэлидес