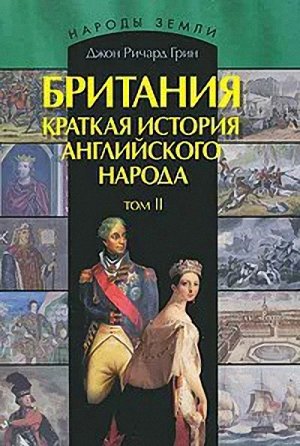Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга Найджела Рааба посвящена стихийным бедствиям и техногенным катастрофам в СССР. В центре его внимания – землетрясения в Крыму, в Ашхабаде, Ташкенте и в Армении, а также катастрофа на Чернобыльской АЭС. Изучая самые крупные катаклизмы, происходившие в разные периоды советской истории, исследователь тем самым проливает свет на важные изменения в социальной, культурной и политической сферах.Издание предназначено для специалистов по истории СССР, для студентов высших учебных заведений, а также для всех интересующихся историей катастроф, советского государства и общества.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Найджел Рааб»: