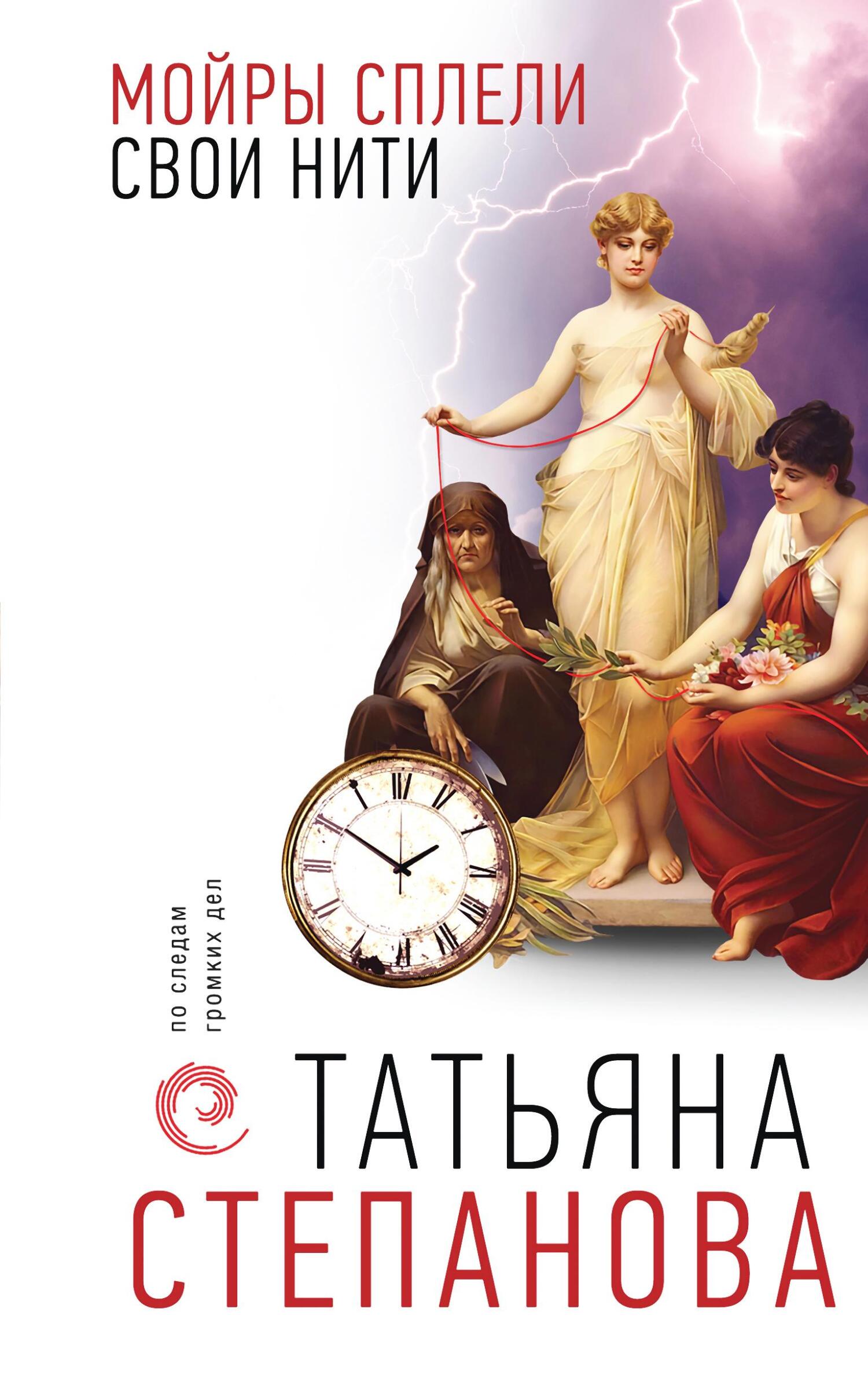Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Страсти по опере» — новая книга Любови Казарновской. Это невероятное погружение в мир оперы можно с полным правом назвать романом об опере или романом с оперой, столько искренней любви и к музыке вкладывает автор в свое повествование. Но также это и настоящая энциклопедия музыкального театра. Любовь Казарновская рассказывает о судьбах великих музыкантов, о проблемах современного театра, о собственном сценическом опыте, делится мыслями о будущем великого жанра оперы. Предыдущая книга певицы «Оперные тайны» стала настоящим бестселлером и получила высокую оценку как профессионалов, так и любителей оперы.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Любовь Юрьевна Казарновская»: