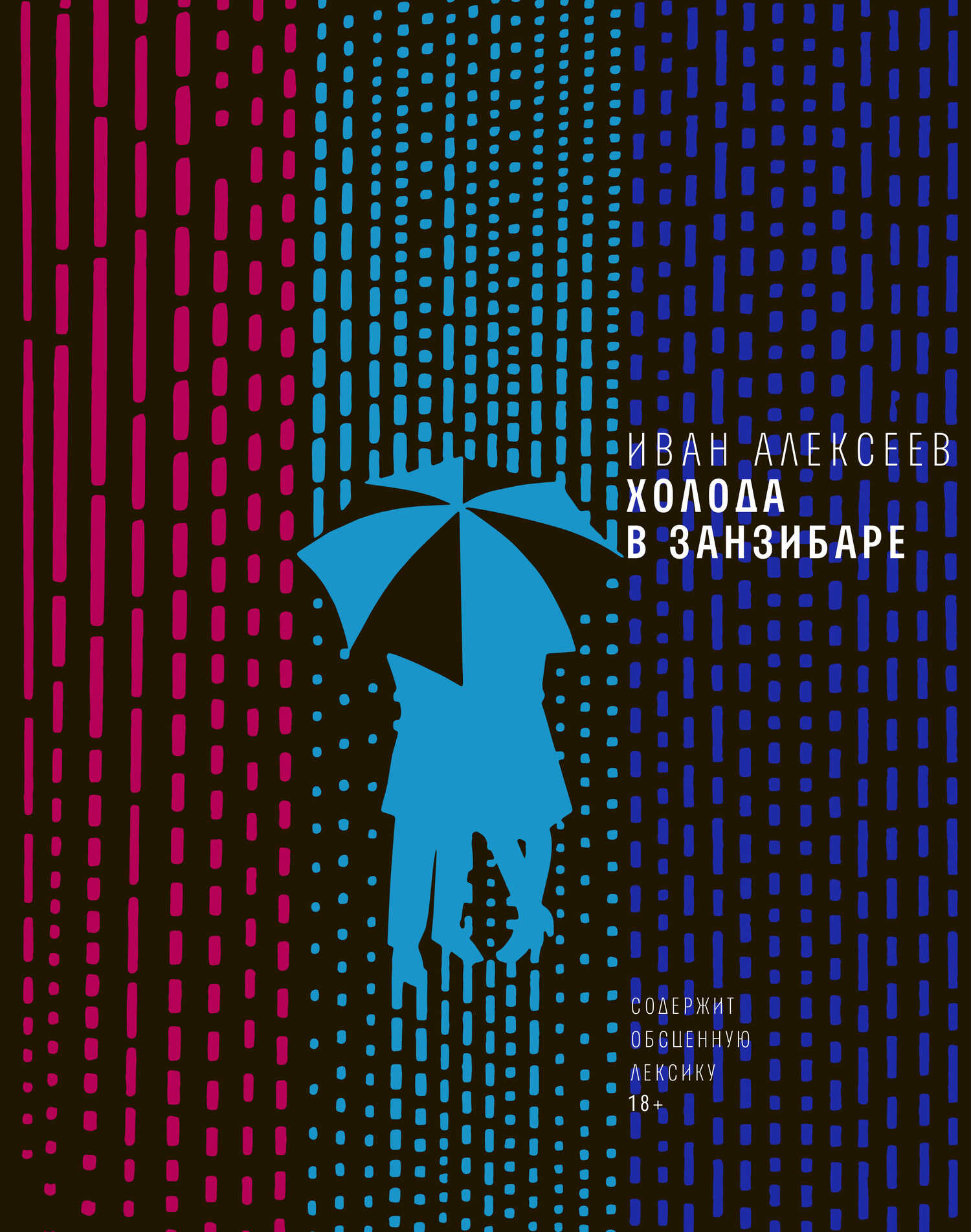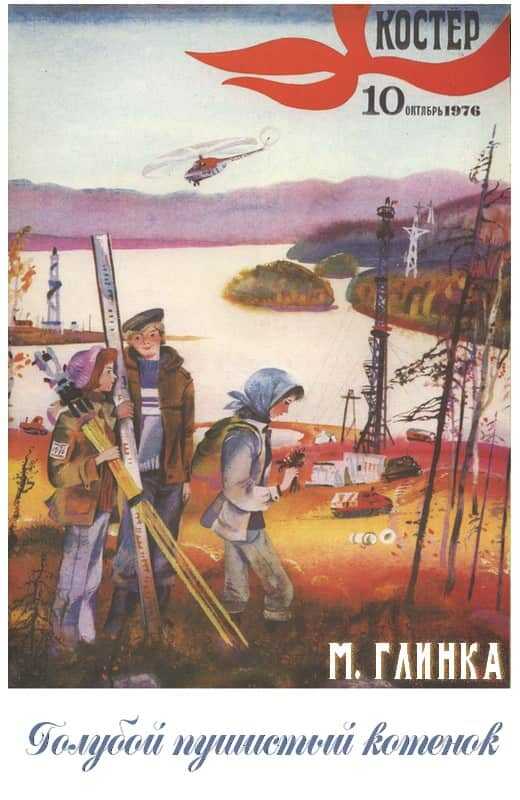Шрифт:
Закладка:
– Это важно, – подчеркнул он.
– Почему? – спросила, кажется, Лена.
– Ну, скажем, – зеленые, с длинными ресницами глаза бархатисто засветились, – потому что мое детство давно закончилось и я по нему скучаю. Это мое дворовое прозвище.
Лиза мучилась три дня, а потом взяла и позвонила.
Телефон и адрес она запомнила в одно касание, но все же поглядывала на визитку с золотым уголком, как будто в ней был нарисован план местности. День выпал морозный, и золотой уголок иногда ослеплял зайчиком.
Дом оказался обычным, из кирпича телесного цвета; лифтерша из-под надвинутого на глаза платка недобро спросила, к кому идет, а она ответила, что в мастерскую № 3, и важно предъявила визитку-пропуск; пока лифт опускался, спине сделалось неуютно.
До верхнего этажа лифт не добирался, пришлось подняться по лестнице еще на два пролета. В узком длинном коридоре, освещенным окном в торце, захламленном картонными коробками и деревянным ломом, ей стало страшно, но она прошла почти в самый конец и робко постучала.
Дверь приоткрылась. Затененное бородатое лицо без признаков радости от встречи тотчас же исчезло:
– Проходи, кофе убегает.
И в самом деле, пахло кофе, скипидаром, и, пожалуй, какой-то особенной берложной слежалостью, советский запах которой был уже Лизе знаком. Комнату, забитую полудохлой мебелью, с мутным окном, в которое, чтоб посмотреть, пришлось бы привстать на цыпочки, и с кухонькой в углу, сейчас заслоненной широкой спиной в черной рубашке, она уже прежде видела – во сне. И стопки книг на полу, и штабели холстов у стен, составленные серыми исподами наружу – тоже видела. А к станку с пустым подрамником, судя по всему, уже давно никто не прикасался.
Две белых чашечки, расточая аромат, проплыли на другой берег, к застеленному газетой столу.
– Раздевайся. Садись.
Лиза послушно взобралась на высокий грубый табурет, как будто специально сколоченный для того, чтоб ее было удобней рассматривать; ступни на перекладине – носками внутрь, колени, целомудренно сведенные, – выше стола. Линия спины, линия шеи (голова не должна тонуть в плечах) – за всем этим она напряженно следила, и еще за тем, чтоб не пролить кофе на бесценные, купленные за чеки в «Березке» джинсы.
Кеша молчал и откровенно ее разглядывал – право художника по отношению к модели. Наверное, так и должно быть. Вот только как понять, где заканчивается художник и начинается мужчина? И кого сейчас больше? А если мужчины – это плохо?
Оказалось, что, когда тебя так рассматривают, – приятно. Мальчики с факультета на такое ни за что не решились бы, да и она никогда бы не позволила – в кругу ровесников свои правила. Здесь, во взрослой жизни, – другие.
– Ну что, – вдруг спросил Кеша, – все люди безнадежно одиноки?
– А разве не так?
– А мир оказался вовсе не таким прекрасным, как обещали в детстве? Да?
– Да.
– Любовь жестока, потому что причиняет боль? Так?
Лиза опустила глаза, закурила (серная искра нервно улетела в полумрак), а Кеша продолжал:
– Родители не понимают. И никто не понимает. Так? И хочется верить в Бога, и не получается?
– Откуда ты все это знаешь?
Слезы подступили совсем близко – может, встать и уйти? Или уже поздно?
Кеша рассмеялся:
– Не грусти, все через это проходят.
Правда, смешно. Лиза оттаяла, распустила спину, а Кеша встал, прошелся по мастерской, пнул ногой огромную картонную коробку и тут же нырнул в нее головой – голос из коробки выходил далеким и пыльным.
– Исключения встречаются, но редко. Страшные люди. И все, как один, служат в гэбэ. Вот! – воскликнул он, выпрямляясь, – мне кажется, в самый раз.
На бедра Лизы, мелькнув в навесной траектории, шлепнулся тряпичный ком, темно-синий, оказавшийся рабочим комбинезоном – в таком прошлым летом к ним домой заявился сантехник с коричневым истерханным чемоданчиком и устроил потоп.
– Надевай!
Растерянность на лице гостьи оказалась столь выразительной, что Кеша с досады щелкнул пальцами и тотчас, заглаживая, поспешил на выручку.
– Да хороший я, добрый!
Но Лиза, похоже, не верила. Она не могла совместить себя с этой чудовищной вещью. Для гордой, красивой и хорошо воспитанной девочки это было уже слишком. Она бы Мане, да что там! – товарищу Пикассо не позволила бы с собой – так!
Лиза отшвырнула комбинезон и решительно встала.
– Мне пора.
– Ну вот, – неподдельно расстроился Кеша, – а я надеялся.
– На что, интересно?
– Что ты поможешь сотворить чудо.
– Чудо? – с надеждой и одновременно с опаской спросила она. – Какое?
– Обыкновенное. Одному мне этот бардак не разгрести. Никогда. Одному – тоскливо. Правда.
Лиза сперва решила натянуть комбинезон на джинсы, но потом передумала – будет жарко, а работы много. Кеша, пока она переодевалась, деликатно отвернулся. Комбинезон пах скипидаром и мужским потом, и запах этот, и простор, внутри которого оказалась ее тело, приятно волновали. Может быть, в этой сермяжной одежде Кеша стоял перед мольбертом и складывал кисти в большие карманы. Лямка комбинезона соскакивала с плеча, но она привыкла ее поправлять и чувствовала, что это движение женственно и ей к лицу.
Спустя час Кеша, надев вязаную шапочку, вытаскивал мусор на улицу, а Лиза хозяйничала на кухне – варила кофе и готовила бутерброды с докторской. Как будто так и надо. Как будто сто лет его знала. Например, эту его привычку, задумавшись, замереть на полпути, наклонив голову к плечу.
Оказалось, ей нравилось смотреть, как он ест.
– Теперь у меня наступит новый период, совершенно сумасшедший, – говорил, надкусывая бутерброд, Кеша.
– Розовый или голубой?
– О! Да тебе палец в рот не клади – откусишь. Нет, этот период я назову в твою честь – Ленинским.
– Все! – сказала Лиза и резко поднялась. – Мне пора.
– Что не так? – в Кешиных глазах вспыхнула паника.
– Меня Лизой зовут!
Кеша вдруг упал на колени. Стуча костяшками колен о доски пола, смешно раскачивая плечами, обогнул столик. Поднял на Лизу полные влажной преданности глаза, лизнул по-собачьи ее руку.
И