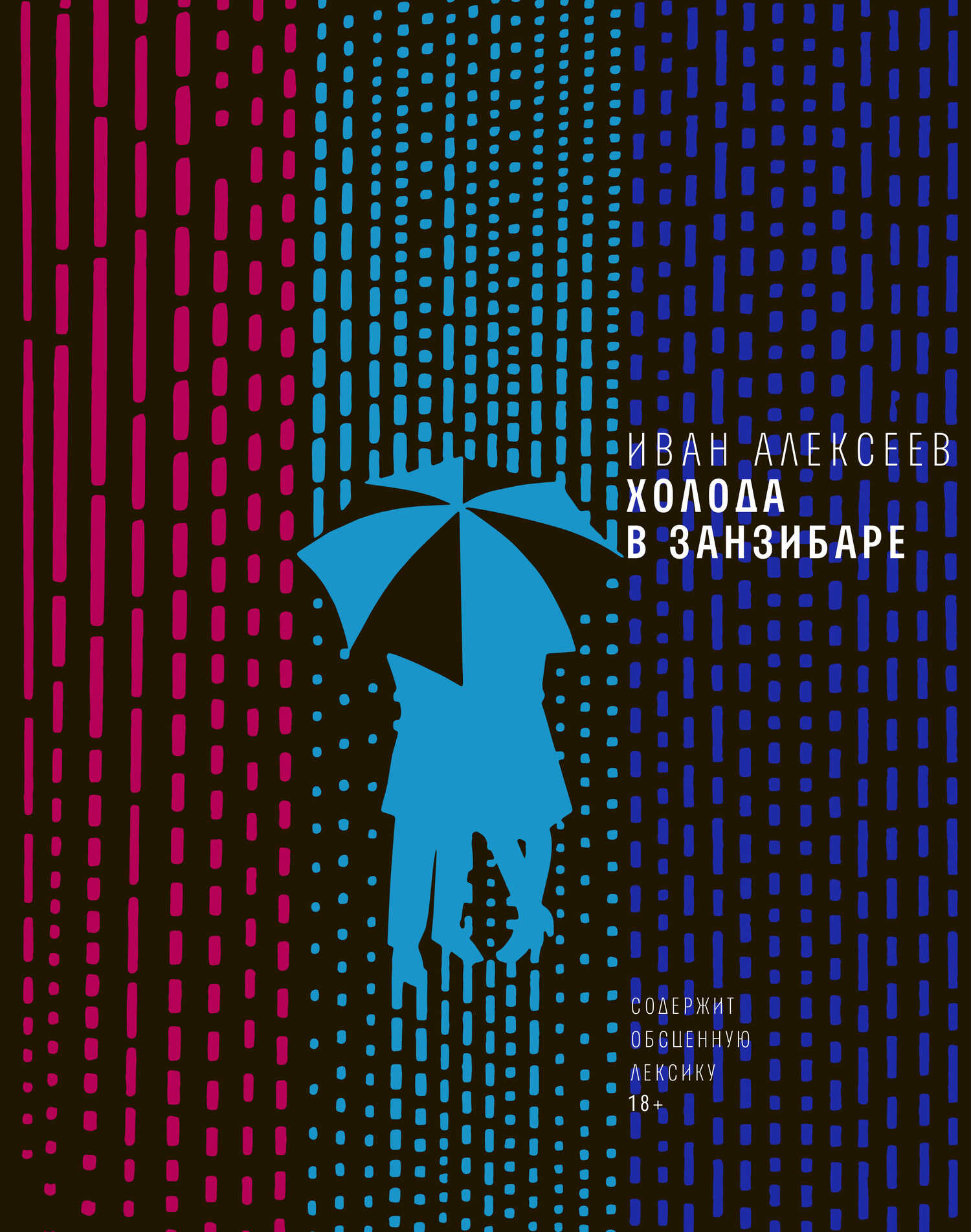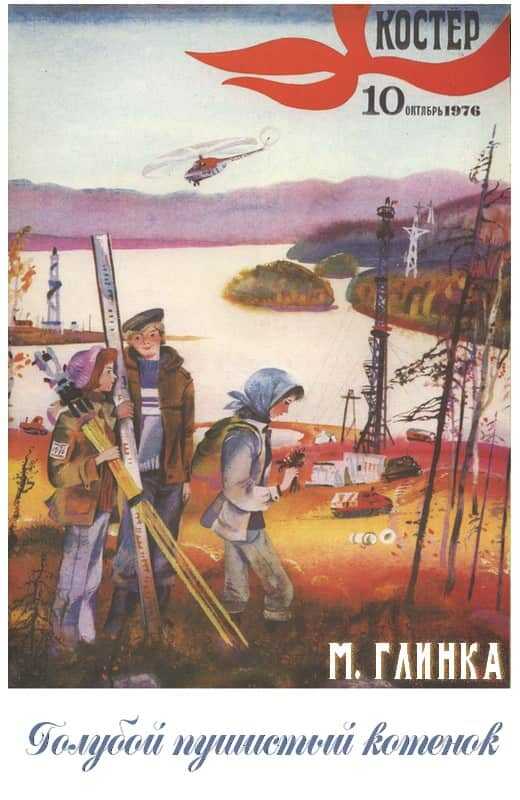Шрифт:
Закладка:
Кажется, звали его Сашей, хотя на все сто поручиться не могу – для нас он навсегда остался Новиком (простенькое и необидное школьное прозвище от фамилии Новиков[19]). Клише его внешности, которым я пользуюсь до сих пор, сработано, надо полагать, целиком с Мишиных слов (фотографии, если они, конечно, были, до меня, увы, не дошли), а те два запечатлевших школьную вылазку на природу снимка, что подсовывает мне память (любительские, плохо проработанные, с непременными пятнами фиксажа), скорее всего, являются фальшивкой, наспех выполненной по шаблону пионерского детства в той же подпольной мастерской, где обычно делаются сны. На первом – округлая купа ив (по ней нетрудно догадаться о наличии уютной пескариной речки), выпотрошенные, с выползшими наружу вещами рюкзаки, брошенный плашмя в траве топор; в темноте треугольного зева палатки чья-то различимая лишь блеском очков физиономия, возможно Мишина, а на бревне перед прогоревшим костром – долговязый, с упавшими на лицо прямыми светлыми волосами, в распустивших шнурки кедах паренек самозабвенно терзает плохонькую гитару; этот же паренек стал героем и второго снимка: выпучив глаза и высунув до подбородка язык, он выставил над доверчивой Мишиной головой рожки из разведенных латинской «V» пальцев[20].
О его гибели я узнал раньше, чем о его существовании. Собственно, гибель и была поводом к этому странному одностороннему (или потустороннему) знакомству[21], подробности которого – увы! – утрачены. Однако в данном случае я полагаю вполне допустимым прибегнуть к реконструкции, ибо, утратив частности, сохранил, как мне кажется, главное: некий мотивчик, вобравший в себя все основные гармонии того, канувшего в никуда, времени.
Может быть это было так: телефонный звонок, Миша. У него трудная, требующая некоего литературного навыка задача: сообщить о смерти Новика, суметь двумя-тремя точными штрихами оживить мертвеца, чтобы я понял, о ком речь, и смог бы быть искренним в сопереживании[22], и в тоже время умудриться не заболтать первоначальную, самую верную ноту горя. Думаю, задача эта оказалась Мише не по плечу, его горе если и не потеряло своей девственности, то как минимум подверглось испытанию соблазном подобрать более или менее точные слова для своего выражения – откуда парню восемнадцати лет было знать, что этих слов не существует? – а в результате – острая неудовлетворенность своим горем, гора, родившая мышь, ходульный конфликт смерти с обыденностью: все как всегда, жизнь продолжается, но уже без Новика, и никому нет до этого дела, и ничего в мире не изменилось, и улица, что движется мне навстречу, ничего не замечает – ни печали, ни оглушенности, разве что брюки явно заграничного производства бросаются в глаза[23]. Короткие гудки.
Датировать появление Новика в нашей компании следует, я полагаю, 1972 годом, весной или самым концом зимы (темнело довольно рано), – дата здесь уместна хотя бы потому, что она фиксирует наш (мой, Мишин, Генрихов, Женин) переход в некое новое, как нам тогда казалось, качество. Несмотря на то что нами уже были прочитаны и Кафка, и Камю и была ксерокопирована в «почтовом ящике» Мишиного отца номерная, для служебного пользования брошюра с лекцией Сартра об экзистенциализме, обнаружилась и пошла по рукам вполне легальная книга Пиамы Гайденко о Кьеркегоре, заструился шепоток о недоступных: Бердяев, Шестов, Хайдеггер, Ясперс, – знания наши были более чем случайны и хаотичны, философствовали мы весьма дилетантски, позорно прибегая в затруднительных местах к простейшим конструкциям здравого смысла, и здесь надо отдать должное Мише, он привел в нашу компанию Новика, этакое наглядное пособие, благодаря чему смерть как реальная экзистенциальная проблема впервые была поставлена перед нами с такой силой и в такой полноте.
Что сталось со мной, когда я положил трубку? Думал ли я о том, что смерть, являвшаяся, как должно было бы мне казаться, преимущественным правом стариков, уже бродит среди нас? Или сожалел о Новике, которого не знал прежде, да и теперь не знаю? – вряд ли. Вероятнее всего, я впал в то особенное, свойственное только юности состояние веселой, не омраченной самокопанием тревоги, когда впервые сталкиваешься с чем-то настоящим, подлинным и тебе уже не терпится испытать себя. Если я и думал о чем-то, то, вероятнее всего, о плывущем в безумной высоте морозного неба крохотном прямоугольнике бетонной плиты, сначала загородившем солнце, а потом и все небо – дальше мое целомудренное воображение работать отказывалось, превращая картинку в сухую информацию газетного сообщения, опубликованного Женей примерно через пару недель в подпольной «Хронике текущих событий», чем он ужасно гордился: накрыло восемнадцать человек, Новик был девятнадцатым, его, успевшего отпрыгнуть, все-таки догнал осколок весом около пятидесяти килограммов.
Наиболее трудная роль в этой экзистенциальной акции – Новик играл гениально в силу совпадения роли и судьбы – досталась Мише, ему еще только предстояло найти убедительный для себя и окружающих образ своего горя, но с каждым часом сделать это было все трудней, потому что неудовлетворенность горем все больше заслоняла само горе. Он смутно догадывался, что горе должно принять форму его тела[24], но как достичь этого, он, разумеется, не знал. Попытка прибегнуть к задушевным воспоминаниям о детстве оказалась, скорее всего, неудачной, и все эти кнопки, подложенные на стул учителя, прогулы уроков с непременным, за семь копеек, мороженым, драки из-за влюбленности в одну и ту же, мелькнувшую белой полоской трусов преждевременно созревшую одноклассницу, когда на тебе, как назло, надеты новенькие брючки и никакое чудо уже не может их спасти – не оказывали ожидаемого действия, ибо они хороши и уместны потом, в фазу избывания горя, но откуда Мише было это знать тогда, в восемнадцать? Было отчего впасть в отчаяние.
Потому, естественно предположить, вслед за первым звонком был второй, а за ним – кафе[25], где мы – Миша, Женя, Генрих и я – встретились для предварительного отправления ритуала, известного нам весьма приблизительно. Мы закурили, молча знакомясь с меню, отпечатанным на папиросной бумаге шестой копией, и мрачно оглядывая зал с музыкальной машиной, за пятачок выдававшей танцы пролетарской, с выбившимися из-под ремней белыми рубахами компании с очевидным дефицитом блядей, и один из нас (конечно же, Генрих) положил на белую скатерть Лениным вниз красную книжечку комсомольского билета (по существовавшему тогда поверью официант должен был принять нас за сотрудников ГБ и, проникшись уважением, обслуживать порасторопней), и долгожданный официант в черной бабочке, коротко стриженный, с ранними лоснящимися залысинами, неслышно вырос из полумрака и, кося в сторону, записал наконец в перекидной потрепанный блокнот заказ, приглушая недовольство тяжелых Генриховых глаз с тогда