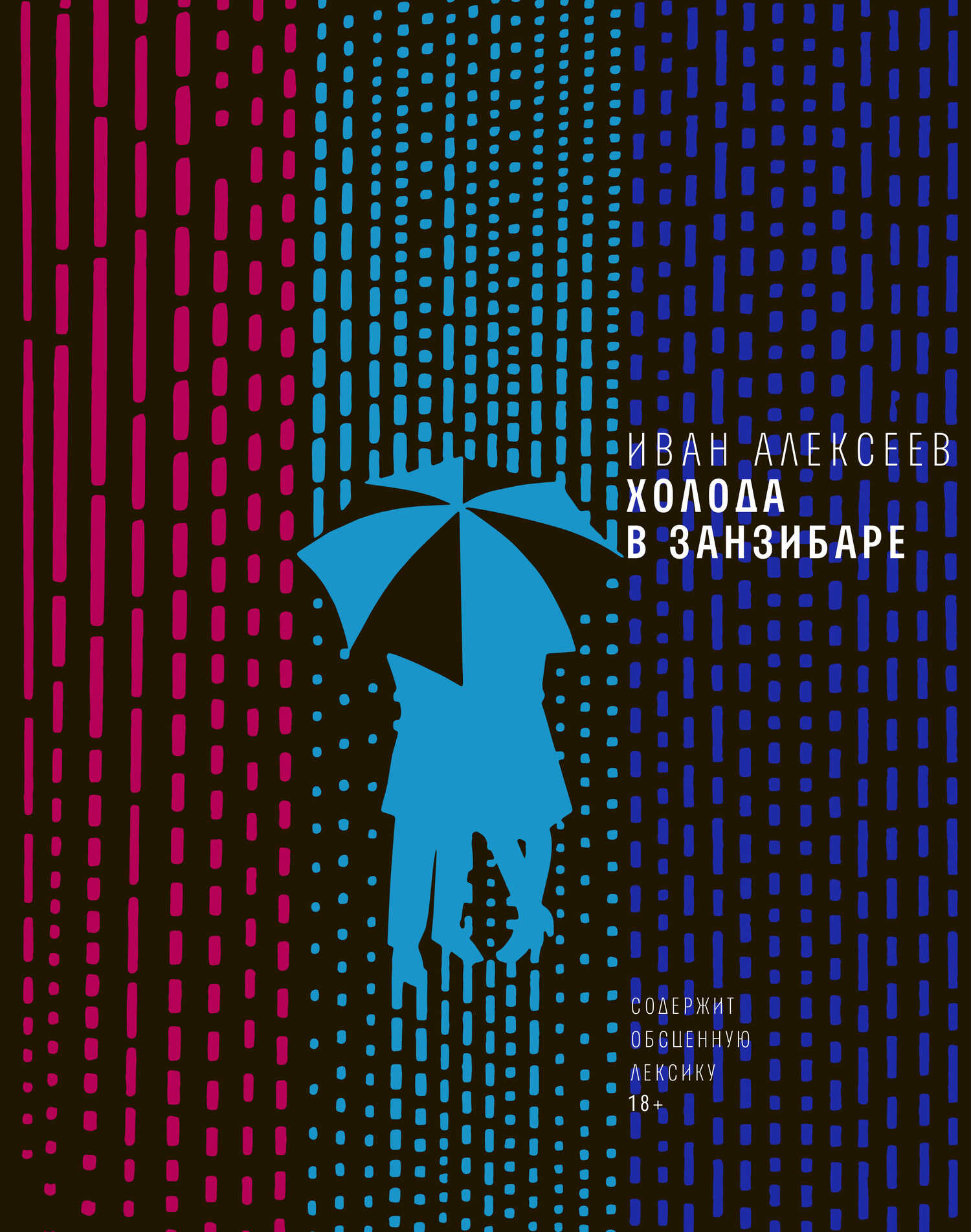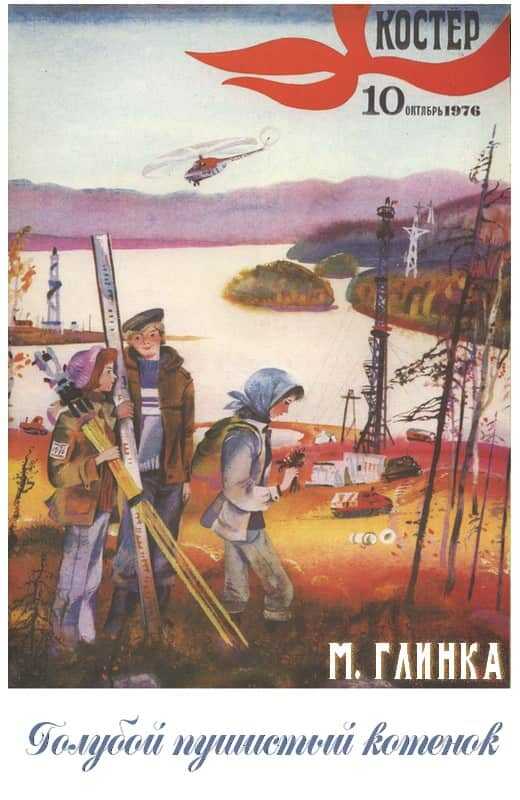Шрифт:
Закладка:
А теперь сосредоточься: год одна тысяча девятьсот семьдесят пятый, февраль, часть N, до отбоя полтора часа, накурено, что хоть топор вешай, теперь мысленно прикрепи на стену керосиновую лампу, а на печке в большой железной кружке пускай у тебя томится покрытый душистой пенкой чифирь. Готово? Тогда поехали.
За Витей был закреплен серый, с черными цифрами, оружейный ящик в углу, Валера же, по праву, дарованному нашей любовью, занимал в тесной каптерке всю лавку, возлежа в накинутой на плечи шинельке, будто какой-нибудь римский сенатор, в то время как мы, аудитория, ютились кто где, в тесноте, на корточках.
Как бы тебе это растолковать – понимаешь, на Валеру находило. Или накатывало. Что-то вроде припадка или транса, как бывает у шаманов, только без всяких там бубнов или настоев трав – разве что глоток чифиря, ну иногда водки. Сейчас бы сказали – парапсихологические способности, а тогда и слова такого никто не слыхал. Признаки были такие – Валера приподнимался на локте, долго, тщательно разминал в консервной банке окурок, медленно поворачивая голову, обводил нас взглядом и так, с вывернутой шеей, вдруг застывал. Глаза его постепенно делались пустыми, невидящими, по телу пробегало что-то вроде судороги, как будто по мышцам блуждали какие-то самостоятельные токи, голос становился глухим, низким – и сеанс начинался. Первым появлялся сложный запах порта, который один раз почувствовав, ты уже не спутаешь ни с чем – тут тебе и рыба, и водоросли, и гнилые фрукты, и пряности, и кислый угольный дым пароходов, и сладковатый выхлоп дизелей, потом становился слышен слитный гул чужой, по-птичьи пощелкивающей речи, прорезаемый высокими голосами мальчишек-попрошаек, и тотчас всей своей муссонной мощью на тебя наваливалась жара – хлопок рубахи лип к спине, под мышками расплывались круги, а брезгливое чувство от случайных прикосновений к смуглым, полуголым телам быстро отступало, когда ты, сощурясь, провожал взглядом узкие, танцующие бедра какой-нибудь субтильной туземки, и вдруг, там, где нефтяная пленка лениво облизывала сваи дряхлого мола, возвращая небу солнце, открывалась бухта – катера, буксиры, мотоджонки, узкая полоска пролива с едва различимым горизонтом, а следом и весь белый, сползающий с холмов к воде, как растаявшее мороженое, город.
Черт его знает, в каких книгах он все это вычитал – мне потом эти книги так и не встретились, а если б и встретились, то наверняка не произвели бы и сотой доли того впечатления. Здесь была какая-то тайна, загадка – современные умники назвали бы это виртуальной реальностью – ну и что? Разве это что-то проясняет?
Чтоб ты знал – мы ходили каботажем от Рангуна до Сайгона, разумеется, заходили в Бангкок, Сингапур, иногда отстаивались, пережидая штиль или погоню в каких-то мелких портах Индонезии. Я до сих пор помню терпкий запах палубных досок, когда их окатишь из ведра, и огромного попугая совершенно сумасшедшей окраски, усевшегося как-то на рейлинг нашей шхуны, и пальмы с толстыми волосатыми стволами, склонившиеся над кишащим черепахами мелководьем у крохотного островка в Сиамском заливе, служившем перевалочной базой для контрабандистов и населенном колонией каких-то мелких и вороватых обезьян. Веришь, но мы обошли все моря Юго-Восточной Азии, не пропустив ни одного борделя, ни одного притона. Мы познали приемы самой изощренной восточной любви, распробовали вкус живых, смоченных лимонным соком устриц, научились одним ударом штыка раскалывать кокос, понимали, что означают жесты маленького, сморщенного, как финик, китайца, зовущего в тень зловонных кварталов, – Джордж Вашингтон быстро перекочевывал в его ладонь с острыми, как у макаки, коготками, и вскоре, растянувшись на жесткой бамбуковой лежанке, погрузив в длинную трубку черный шарик опиума, ты медленно уплывал в мир блаженства и покоя. Но это еще не все, далеко не все. Ты вот сначала выпей за парней, павших за ценности белой цивилизации, выпей за доблестных ветеранов Вьетнама, преданных и оболганных, а потом представь заснеженную Россию, затерянную в лесах войсковую часть и коротко стриженных ребят в советской форме, повторяющих как молитву:
– Лучший вьетконговец – мертвый вьетконговец!
Что это было? Черт знает что – какая-то вакханалия, разнузданная оргия мечты! Благодаря Валере мы изведали ужас и ненависть, пережили горечь поражений и радость побед, узнали упоительное чувство силы, когда штык, разрывая ткань, входит в живое тело, мы десантировались с вертолетов, поднимались на быстроходных катерах по рекам, мчались по грунтовым дорогам на боевых джипах, попадали в засады и прорывались из окружения. Пренебрегая инструкцией, мы надевали вместо касок легкие пробковые шлемы и в составе карательного отряда, увешанные ножами, карабинами, гранатометами, безжалостно расправлялись с партизанами, выжигая до тла спрятавшиеся в джунглях деревни, оставляя в живых разве что женщин, стариков и детей. В Сайгоне, в увольнительной, накурившись марихуаны, мы оплакивали павших и веселились с девочками, виски с содовой – чаще мы заказывали двойной, – ром, джин, мартини текли рекой, и мы старались не вспоминать, что уже несколько лет, как проиграли эту войну, что Сайгон захвачен кликой Хошимина, а наши подружки из борделей со звонкими, как удар гонга, именами отправлены коммунистами на работы в рисовые поля.
Как-то, когда сеанс закончился и мы с обожженными тропическим солнцем глазами вернулись в полутемную каптерку, в эти снега и тоску, Валера закуривая, сказал:
– А теперь, господа юнкера, вопрос.
Надо заметить, он был мастером паузы – подождал, стряхнул пепел, неспеша затянулся, медленно, в потолок, выдохнул и наконец спросил:
– Так где самые лучшие бардаки?
Вот ты думаешь – где? То-то же. Мы начали с Бангкока и Манилы, добрались до Европы – до Марселя и Гамбурга.