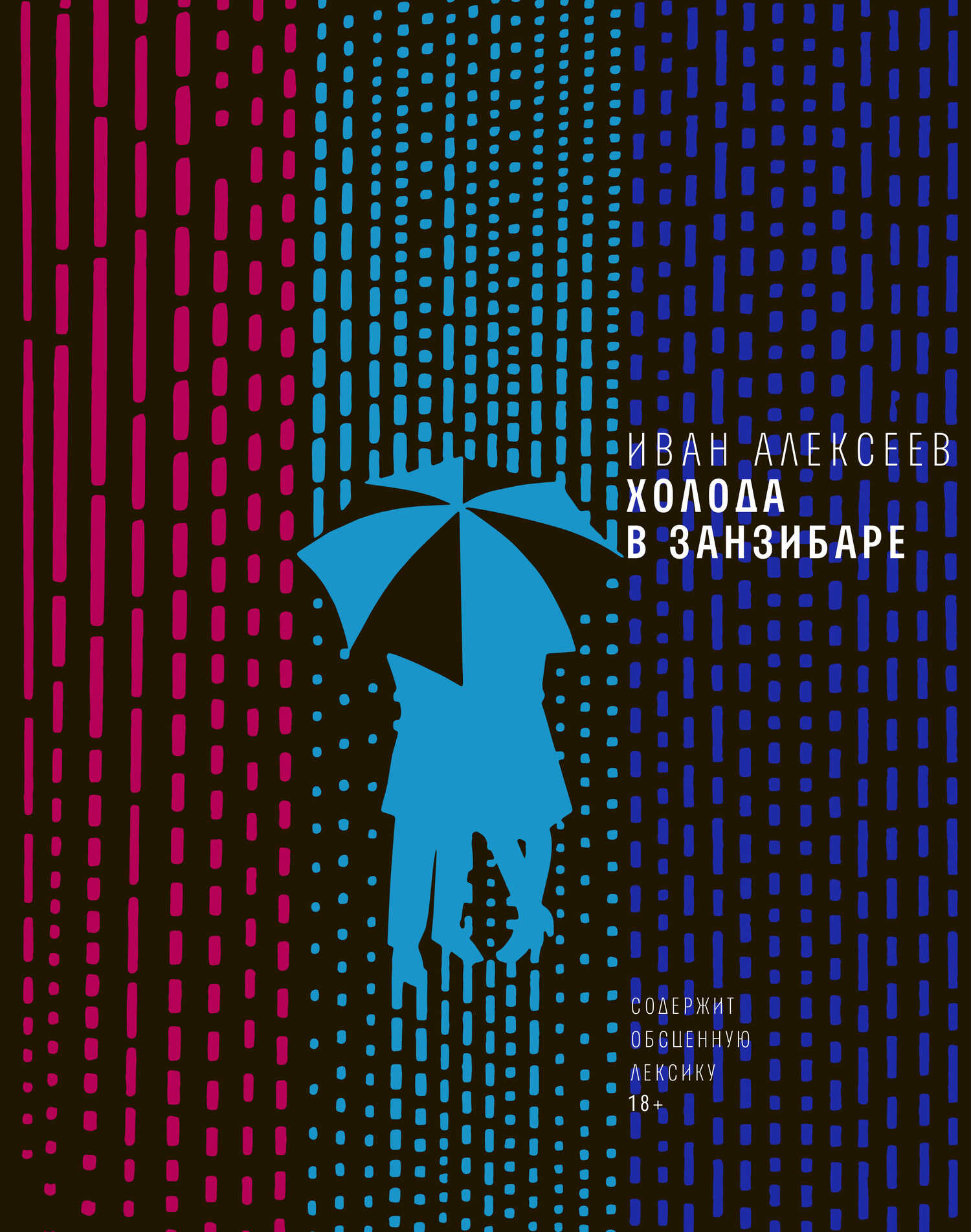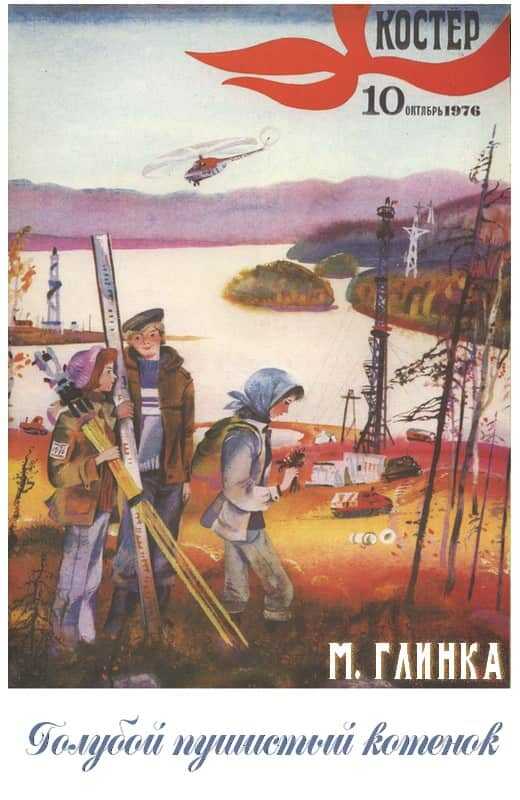Шрифт:
Закладка:
А потом детство кончается. Как? А очень просто – однажды ты просыпаешься и понимаешь, все, голубчик, детство кончилось, потому что в трусах у тебя мокро и скользко, а на душе погано и радостно одновременно. И тогда ты думаешь: «Ого!» В то же утро у тебя меняется походка, ты начинаешь чистить башмаки, следить за стрелками на брюках и безответно, соблюдая дистанцию, любить учительницу химии, длинноногую жену капитана, командира звена, привезенную им с Западной Украины, которая однажды, выгнув стан и обернувшись через плечо, изящным движением прихлопнула на загорелой икре комара. Кажется, это называется жар первой любви – или я ошибаюсь? Так вот, весь этот нерастраченный жар – не подумай плохого – был отдан моим старшим друзьям – солдатам.
Часть у нас, как ты понял, была авиационная, и в диспетчера ребят подбирали поголовастей, как правило, городских, отчисленных из институтов, служба у них, как говорится, через день на ремень – день у пульта, день свободный, они даже на построения не всегда ходили, им вся эта обязательная солдатская жизнь была, считай, по фигу, разве что ночевали в казарме, со всеми. Ребята из роты охраны – те попроще, им и наряды, и кухня, и, само собой, строевая. А теперь спроси меня – кто такой Гена Поляк? Ладно, наливай. Выпьем за его здоровье, если он еще жив, чертяка.
А Гена – мой друг, борец за справедливость и рекордсмен по сидению на губе. Однажды иду через плац и вижу такую картину: здоровенный парень – росту в нем, может, сантиметров трех не хватало до двух метров, а рожа круглая, добродушная и чуть придурковато перекошенная из-за, как потом выяснилось, застуженного на охоте нерва – стоит на шаткой лестнице и красит серебрянкой памятник Ленину. А кисточка – знаешь, как бывают для клея. Язык от усердия высунул, и так он, можно сказать, любовно, втирает эту краску, что у меня сразу мурашки по спине побежали, будто он не памятник – меня щекочет. И тут я как гаркну старшинским басом: «Смир-рна!» – он рухнул, а в падении, бедолага, отломал памятнику ухо. Так и сдружились. Родом он был из Сибири, из поляков, сосланных еще царем, зато по чудаковатости мог любому русскому сто очков вперед дать. Ему ничего не стоило на генеральском смотре вдруг разуться и начать перематывать портянку или в задумчивости вместо уставного армейского приветствия приподнять пилотку, как шляпу, он мог уснуть на боевом дежурстве – и как-то пацаны, моя гарнизонная смена, обчистили склад, который он охранял. И хотя я в тот же день разобрался с этими флибустьерами, перетряхнул все их захоронки и вернул на склад дозиметры, противогазы и еще кучу каких-то неизвестного назначения приборов, Гена все-таки загремел на пять суток.
А в те годы с солдатами жили старшины – тогда они только-только нашили прапорские погоны – усатые, высохшие, как старые деревья, дядьки. Но этот был толстый и сутулый. Лишь когда малую нужду справлял, он, пока искал потерявшийся в просторных галифе мужской отросток, как-то очень браво распрямлялся и энергично, всем телом, из стороны в сторону раскачивался. Так вот, приходит он к моему отцу, честь, как положено, отдал, ногами о резиновый коврик пошаркал, то да се, разрешите обратиться.
– Я, товарищ майор, про Сашку, значит, хочу доложить. Дружит, он, понимаешь, с Кислевским. Он хоть и из Сибири, товарищ майор, но поляк.
– Поляк?
– Так точно, поляк.
– Ну и что же, что поляк?
– Плохой он солдат, товарищ майор.
Для отца мнение старого служаки, посконное, народное мнение было значимо – если плохой солдат, то и человек такой же.
– С губы не вылезает, товарищ майор. То Ленину ухо оторвет, а тут, понимаешь, пост оставил.
С самых малых лет мы, гарнизонная мелочь, считали делом чести помогать ребятам, попавшим под арест, таскали им еду, сигареты, и как-то меня, пацана, чуть было не подстрелил охранявший губу чурек – зарабатывал отпуск. Вообрази: темнота, огонь очереди, а ты ничком лежишь в луже, и удары твоего сердца глухо вязнут в глине… А потом, вечность спустя, когда звон в ушах осел и сделалось слышным пощелкивание остывающего ствола, я открыл глаза и знаешь что увидел? – отраженные в неподвижной воде звезды… Домой меня принес отец – на руках. Сам понимаешь, отчего ему очень хотелось, чтоб я держался от гауптвахты подальше. Дружить с Геной мне было запрещено – но что такое отцовские запреты, когда тебе вот-вот исполнится шестнадцать?
Меня тянуло к Гене, может, еще и потому, что, вопреки возрасту, я был в нашем тандеме старшим. Что говорить, мне нравилось пользоваться его простодушной, какой-то наивной услужливостью, льстило, что мои разглагольствования он слушает открыв рот и просит объяснить смысл непонятных слов – например, он никак не мог запомнить, что означает «конкретно», путал его со словом «корректно» и просил для облегчения запоминания перевести на русский, а я, раздражаясь, отвечал, что «конкретно» – это «конкретно», и если бы было русское слово, то не возникло бы необходимости в иностранном. Но Гена не обижался.
Ты вот что мне скажи – любишь ли ты армию так, как люблю ее я? Нет, ты не любишь ее, ты не служил и думаешь, что армия это муштра, казарма и дедовщина, что в ней невозможно уединение, свобода, полет фантазии и мысли. Черта с два! К зиме Гена с сибирской обстоятельностью выгородил железом в дальнем ангаре угол, достал где-то печку, разжился лавками, ящиками и старыми телогрейками, я же приволок картинки из журналов «Экран» и «Вокруг света» и украсил ими ржавые стены – получилась замечательная теплая каптерка вдали от командирских глаз. Рейтинг – как бы сейчас сказали – у Гены Поляка резко вырос. Теперь с ним, солдатом роты охраны, хотели дружить даже диспетчера. Но Гена оказался не так прост – знаешь кого он выбрал? То-то же. Он выбрал Валеру, бывшего студента института иностранных языков, и Витю – тоже откуда-то отчисленного – по прозвищу Писатель.
Ну что тебе