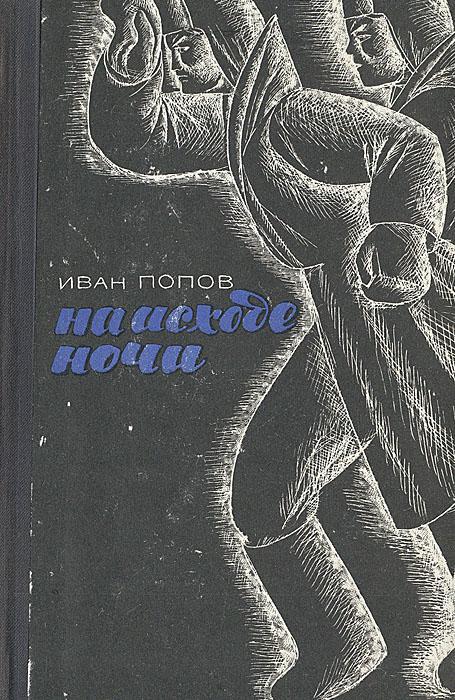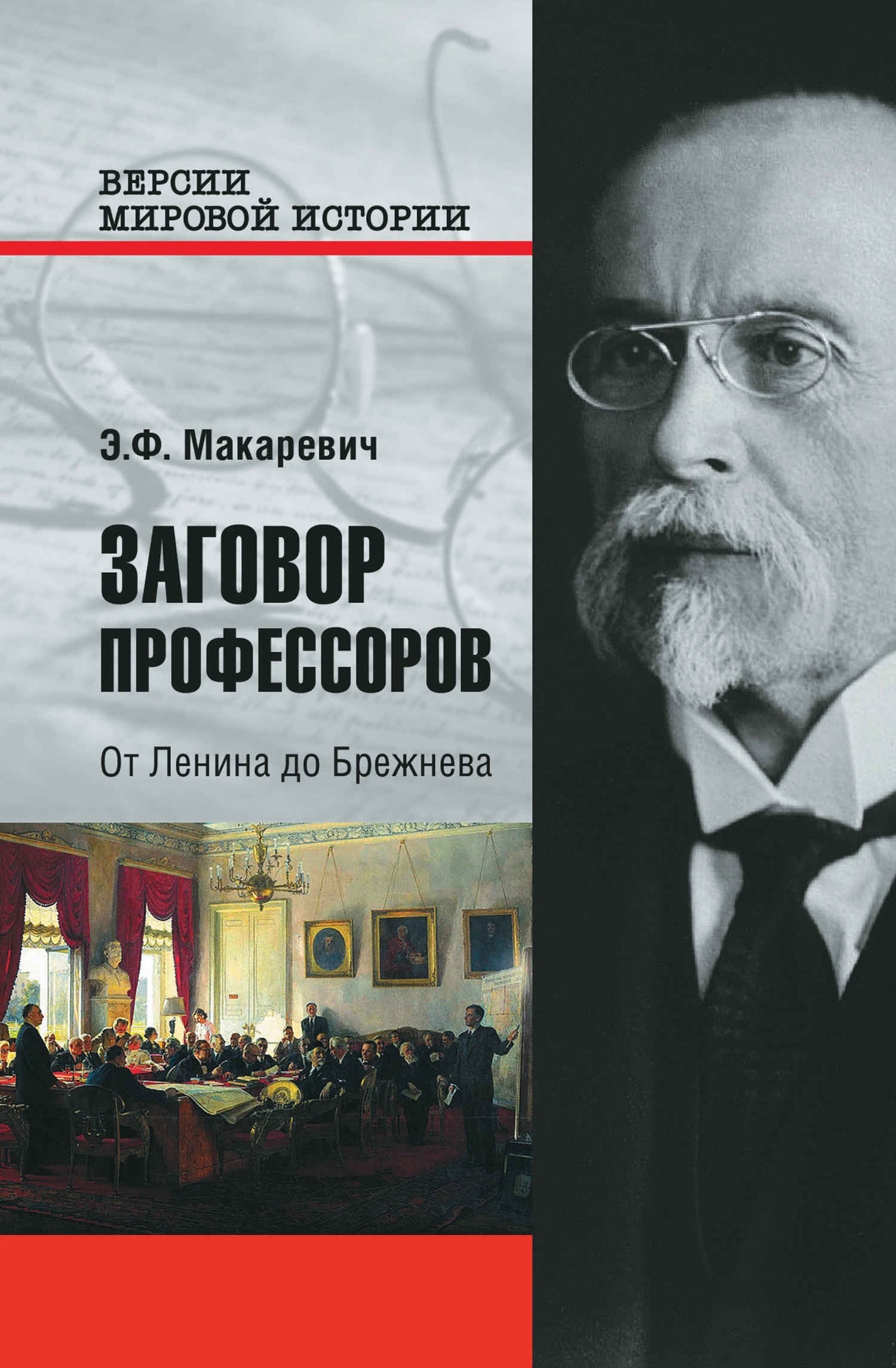Шрифт:
Закладка:
Валериан смотрел на брата. Анатолий был худ, изможден. Видно, нелегко ему приходилось в Москве, где народ голодал. И все же Анатолий как-то помогал матери, сестрам, хотел казаться веселым. Да, трудно быть судьей родному брату. Да и за что его осуждать?
Сейчас Валериан пытался отогнать один образ, но никак не мог этого сделать. Когда еще до начала конференции он зашел в редакцию «Правды», занимавшую две комнаты в большом доме на Мойке, его встретил бородатый аскетически худой человек в косоворотке. Темно-русые, свободно зачесанные назад волосы, темные очки. Такие носил отец — Владимир Яковлевич. Бородатый человек назвал себя:
— Шелгунов.
— Василий Андреевич! Я Куйбышев. Здравствуйте.
— Помню. Присаживайтесь и закуривайте.
Это был тот самый Шелгунов... Слепой революционер, рабочий, имя которого знали на всех заводах. Зрение потерял еще в 1905 году. С ним Ильич начинал свою революционную деятельность в 1894 году. Одно время Шелгунов был редактором «Правды», и этого слепого человека жандармы не постеснялись упрятать в тюрьму.
Нет, слепой Шелгунов тюрьмы не испугался. Обрадовавшись Куйбышеву как старому знакомому, стал рассказывать о том, как 3 апреля ходил встречать Ильича на Финляндский вокзал.
— Тянет все время в «Правду», — сказал он. — Теперь здесь главный редактор — Ильич. Спуску всем этим стрекулистам — Каменеву и его единомышленникам — не дает: кроет их и в хвост и в гриву.
От встречи с ветераном русского революционного движения у Валериана осталось доброе чувство. Его поразил оптимизм этого человека, его непреклонная вера в победу большевиков.
Почему Валериана беспрестанно преследует образ человека, раз и навсегда потерявшего зрение, но не утратившего радости жизни?
— На мне ответственность за маму, — повторил Анатолий. — Можете называть меня обывателем, мещанином — как угодно.
— Да, конечно, — сказал Валериан задумчиво. — Не воображай только, будто мы занялись политикой ради собственного удовольствия. Николая вон заниматься политикой заставила война. Политика, Толя, требует особого сердца. А маму мы любим не меньше, чем ты. Но мы просто не можем не быть большевиками. Не можем! И собственной жизни не щадим, как тебе известно. И тебя, поверь, не осуждаем. Рано или поздно ты все равно без политики не сможешь обойтись. Ну да ладно! Сегодня я самый счастливый человек в Петрограде. И вот что придумал: едем все трое в Тамбов! К маме, к сестрам...
— Я был у них недавно, — сказал Анатолий.
— Не имеет значения. Все трое...
— Едем! — поддержал Николай. — Мама о нас с тобой, Валериан, все глаза выплакала. А сейчас расскажи о Ленине. Ты с ним разговаривал? Какой он?..
— Какой?..
Валериан неожиданно хлопнул себя по лбу ладонью:
— Черт возьми! Да уж не снится ли мне все это? Революция, Ильич, вы?.. — Чувство нереальности всего окружающего завладело им. — Мы подготовим маме и сестрам сюрприз, — сказал он. — Как в былые денечки, когда жили все вместе.
В Тамбов они прибыли рано утром. Весело переговариваясь, подошли к дому, где жили мать и сестры Надежда, Елена, Евгения, Галина и Мария. Остановились, перевели дух. Валериан взглянул на окна — не покажется ли знакомое лицо. Увидел на окне жестяную семилинейную керосиновую лампу и сразу погрустнел.
— Та самая лампа... Цела!
Да, братья тоже узнали эту лампу и тоже сделались грустными. Когда еще был жив отец, лампу каждый вечер ставили на подоконник и зажигали. Это значило: в доме все благополучно. И дети, откуда бы они ни приезжали в поздний час, завидев этот родной огонек, знали: их ждут, все благополучно...
Зажигает ли мама теперь лампу по вечерам? Наверное, зажигает... Ждет сыновей.
— Толя, иди первым, — сказал Валериан. — А мы по одному за тобой.
Такие сценки они разыгрывали в детстве, когда все трое возвращались домой из Омска.
Анатолий позвонил. Открыла сестра Елена.
Позже она расскажет: «В суматохе встречи, во взаимных расспросах прошло пятнадцать — двадцать минут. Снова звонок. Иду открывать, и в комнату входит Коля, младший брат, офицер царской армии, перешедший на сторону большевиков...
— Как хорошо! Два сына, не сговариваясь, приехали меня навестить! — радовалась мама.
Прошло немного времени, и в комнату с шумом входит оживленный, веселый Воля. Казалось, что нашему ликованию не будет конца».
Промелькнули счастливые дни. Пора прощаться.
Он вернулся в Самару. Здесь его ждали с нетерпением.
Самара насторожилась, нахохлилась. Что-то вызревало, словно нарыв, в добротных каменных особняках заводчиков, фабрикантов, банкиров.
Куйбышев знал что́.
Как он и предвидел, первый испуг буржуазии прошел.
Не только в Петрограде, но и по всей России спешно готовился заговор против революции.
И нити этого невиданного заговора находились всецело в руках человека безликого, которого даже история всякий раз обходит молчанием или отделывается скупым упоминанием его фамилии: очень уж он невзрачен и неприметен на фоне грандиозных событий. Его почти нет, он — всего лишь государственный чиновник, функция.
Князь Львов!
Тихий, любезный, учтивый, демократичный, Георгий Евгеньевич готов выслушать каждого, посочувствовать, дать добрый совет. Он кажется совсем безобидным, совсем ручным. От его брюшка, стянутого полосатой жилеткой, от прищуренных глаз и провинциальной бородки исходит некий уют, словно от доктора по детским болезням. Если послушать Георгия Евгеньевича, то можно поверить, будто бремя главы кадетского Временного правительства — министра-председателя — он взвалил на себя под давлением обстоятельств: великий князь Михаил отказался — должен же кто-то возглавлять, взять всю меру ответственности на себя! Князь Львов, которому под шестьдесят, во имя революции пожертвовал собой. Он готов в любую минуту передать власть другому, освободиться от неприятной миссии быть председателем совета министров и министром внутренних дел Временного правительства.
И все верят этой сладостной лжи. Гучков, Милюков — откровенные узурпаторы, тупые, примитивные, с князем Львовым почти не считаются, не принимают его в расчет, они грубо проводят свою убогую политику лакеев и лавочников, дорвавшихся до власти. Они портят все дело, против них сгущается недовольство революционно настроенного народа. Вертлявый, крикливый дурачок Керенский, «заложник демократии», тоже не находка. Он чересчур уж самонадеян и демагогичен. Этот болван уверен в том, что солдаты и рабочие обожают его. Нет болезни тяжелее, чем глупость. Типичный параноик